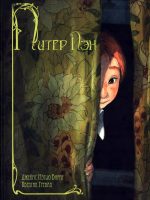Книга: «Русские волшебные сказки»
Чтобы открыть книгу нажмите ЧИТАТЬ ОНЛАЙН (144 стр.)
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
В стародавние времена в некотором царстве, в некотором государстве, за семью морями да за семью горами жил-был царь, а у царя было трое сыновей. Старший — умный, средний — ни так ни сяк, а младший, Иван-царевич, — дурачок.
Вот как-то раз и говорит им царь:
— Сынки мои милые, молодые царевичи! Скоро уж мне время помирать, надо бы из вас себе наследника выбрать. Велю я вам три дела сделать; кто их лучше других исполнит, тому я царство и передам. Для первого раза достаньте себе по коню: конь витязю в бою верный товарищ. Завтра ваш выбор глядеть буду.
Призадумались старшие царевичи, да делать нечего — нужно коней доставать. Сейчас слуг разослали по торгам да по конским заводам с наказом рано наутро привести к ним самых что ни есть лучших коней. А Иван-царевич взял свой тугой лук со стрелами и пошёл куда глаза глядят.
«Где уж мне, — думает, — со старшими братьями тягаться!»
Идёт Иван-царевич чистым полем, глядь — по-над самой землёй малая птичка малиновка перепархивает, из стороны в сторону мечется, а над ней коршун вьётся, хочет её поймать. Пожалел Иван-царевич птичку малиновку, наложил на лук калёную стрелу и выстрелил; просвистела стрела мимо коршуна, тот взвился высоко в небо, а птичка прочь улетела.
«Эх, — думает Иван-царевич, — стрелы только жалко, надо пойти отыскать её».
Пошёл он в ту сторону, шёл-шёл, вдруг видит: у болота старая дуплистая ветла растёт, а в ветлу его стрела воткнулась, да так, что только перья видны. Стал он её вытаскивать — не поддаётся.
«Что ж, — думает Иван-царевич, — дай-ка в дупло влезу, оттуда стрелу вытащу».
Влез он в дупло, да и провалился под землю.
Смотрит: комната, богато убранная. Посреди комнаты золотое кресло, а на кресле сидит Лягушка с доброе ведро ростом, да такая гладкая, противная, что смотреть тошно.
— Здравствуй, Иван-царевич, — говорит Лягушка. — Зачем ко мне пожаловал?
— Нечаянно к тебе провалился, — говорит Иван-царевич.
— Ну, бывает и случай на руку, — говорит Лягушка. — Что это ты, царевич, погляжу я, невесел; точно забота, печаль у тебя какая есть?
— А хоть бы и была забота — не твоя. Разве ты мне поможешь? — говорит Иван-царевич.
— Может, и помогу, — говорит Лягушка, — рассказывай-ка.
Рассказал Иван-царевич Лягушке про задачу, что отец ему и братьям задал. Лягушка призадумалась и говорит:
— Ква-ква-ква! Пустая твоя печаль. Я тебе такого коня дам, про какого твои братья и не слыхивали. Только с уговором: что я у тебя буду просить, в том ты мне не отказывай.
«Чего у меня Лягушка просить будет? — думает Иван-царевич, — червяка или козявку».
— Ладно, — говорит. — Сослужи мне эту службу, а я тебе в твоей просьбе не откажу.
Крикнула-свистнула Лягушка:
— Эй, слуги мои верные! Приведите наверх к моему крыльцу того коня, на котором у моего батюшки воду возят!.. Ну а ты, Иван-царевич, выходи назад через дупло, на белый свет, только своё царское слово помни!
Вылез Иван-царевич наверх да так и ахнул: стоит у ветлы вороной конь красоты неописуемой, смотрит гордо, словно орёл; ноги точёные, тонкие ноздри как пламя пышут; сам весь гладкий, шелковистый. Вскочил на него Иван-царевич да и поскакал.
На другое утро вышел старый царь на крыльцо и стал коней глядеть.
У старших братьев хороши кони, только перед конём Ивана-царевича — всё равно что водовозные клячи.
— Хорош по виду твой конь, Иванушка, — говорит царь, — но погляжу, каков-то в бою будет.
Сейчас приказал он полку солдат стать возле коней, из ружей выпалить. Кони старших царевичей испугались, на дыбы встали, седоков сбросили и пустились в поле со всех ног, а Ивана-царевича конь, только пальбу услыхал, прямо в самый дым так и кинулся: зубы оскалил, задом-передом бьёт… Солдаты и ружья побросали, бегут кто куда.
— Стой, — кричит царь, — сдержи коня, сынок! Лучше твоего, кажись, и на свете нет!..
Только чуть назад наклонился седок — конь стал как вкопанный. Поднялись тут старшие братья, подошли.
— Ну, — говорит царь, — теперь, детки, я вам другую задачу задам. Приведите мне каждый по самому своему верному другу-приятелю. Погляжу я: у кого из вас настоящий товарищ есть, тому легче будет и царством править, с недругами управляться.
Пошли старшие братья по приятелям, друг перед другом стараются лучшего выбрать, а Иван-царевич пошёл один в чистое поле.
«Какие, — думает, — у меня верные друзья есть? Как я их угадаю?»
Идёт он куда глаза глядят, вдруг пришло ему на ум: «Не пойти ли мне опять к Лягушке, которая коня дала? Может, она и теперь мне поможет».
Отыскал Иван-царевич ветлу у болота, спустился в дупло. Лягушка тут и есть, сидит по-прежнему на золотом кресле, таращит на него глаза и усмехается.
— Зачем, — спрашивает, — опять, царевич, ко мне пожаловал?
Рассказал ей Иван-царевич про новую отцовскую задачу, а она говорит:
— И на этот раз я тебе помогу; добуду тебе такого товарища, вернее которого на свете не найти, только помни, что ты мне обещал.
— Ну, — говорит Иван-царевич, — сказал уж я, что не будет тебе от меня отказа, что бы ни попросила. А царское слово неизменное.
Свистнула-крикнула Лягушка:
— Эй, слуги мои верные, приведите к моему крыльцу ту собаку, что у моего батюшки овец стережёт!
Иван-царевич вышел наверх, да так и ахнул, чуть со страха назад в дупло не воротился: лежит у ветлы собака, страшная, огромная, с доброго медведя ростом. Лежит, а сама в глаза ему смотрит, хвостом виляет. Собрался Иван-царевич с духом, подошёл к ней — она встала, руку ему лизнула и за ним пошла.
Наутро приходят к отцу старшие царевичи, и каждый с собою не одного, а двух приятелей ведёт. И Иван-царевич с собакой пришёл. Взглянул царь на собаку и усмехнулся. А братья давай над Иваном-царевичем потешаться:
— Хорош у тебя, братец, приятель. Должно быть, куда весело с ним компанию водить!
— Ну, ладно, — говорит царь, — вот придёт случай, испытаем ваших товарищей.
Через некоторое время выехал царь на охоту; старших сыновей с товарищами взял, и Иван-царевич со своим псом тоже поехал. Пустили в лес собак; собаки бегают, лают, зверей гонят, а Ивана-царевича пёс ни на шаг от него не отходит, так в глаза и глядит.
Едут охотники все вместе; вдруг из чащи вышел страшный медведь, поднялся на задние лапы и пошёл прямо на старших царевичей. Те было стрелять, да
второпях промахнулись, оглядываются на своих верных товарищей, чтобы помогли, — а их уж и след простыл, на деревья забрались, чуть живы со страху сидят. Кинулись и царевичи наутёк, по деревьям попрятались. А медведь так и ломит на старого царя с Иваном-царевичем. Выстрелили и они — только взревел медведь и ещё пуще освирепел… Видит царь: беда неминучая. Оглянулся Иван-царе-вич на своего пса да свистнул… Увидал пёс, что хозяин его на помощь зовёт, — и кинулся на медведя, точно стрела пущенная, да так и впился медведю в глотку. Обхватил его медведь, заревел, и повалились недруги на землю, клубком сцепившись.
Все так и ахнули, даже братья на деревьях замерли.
«Эх, — думает Иван-царевич, — заломает медведь мою собаку!»
Ан глядь — вскочил пёс целый-невредимый, а медведь мёртвый на снегу лежит.
Подбежал пёс к Ивану-царевичу, руки ему лижет, ластится.
— Ну, Иванушка, — говорит царь, — настоящего ты себе товарища выбрал: этот не выдаст в беде — не то что твоих братьев приятели.
Тут и старшие царевичи подошли, без товарищей, — те от стыда по домам убрались. И говорит сыновьям царь:
— Третью задам я вам, детки, задачу. Выберите себе невест по нраву, по сердцу. Хорошо народу жить за строгим царём да за доброю царицею. Погляжу ваш выбор — тогда и решу, кому из вас государем быть.
Поехали старшие царевичи себе невест выбирать: один поехал по князьям, другой по генералам дочерей смотреть, а Иван-царевич вовсе не знает, что ему делать. Сидит он в царском саду под деревом, задумавшись, вдруг слышит: по дорожке что-то шлёпает: шлёп-шлёп, шлёп-шлёп! Глядит, а это Лягушка к нему прыгает.
— Здравствуй, Иван-царевич! — говорит. — Думаешь ты, где себе невесту найти? Вот она тебе невеста — я.
— Что ты, — испугался Иван-царевич, — виданное ли дело, чтоб человек на тебе, на Лягушке, женился.
— А вот ты и женись: ведь ты, Иван-царевич, дал слово своё царское не отказать мне в том, чего я у тебя попрошу. Так возьми меня замуж!
Плюнул Иван-царевич и пошёл во дворец — а Лягушка не отстаёт, шлёп да шлёп за ним, на крыльцо со ступеньки на ступеньку карабкается и допрыгала до той залы, где старый царь на троне сидел, невест своих сыновей смотреть собирался.
Старший царевич подвёл к отцу княжну — хороша, спору нет. Второй подвёл генеральскую дочь — эта ещё лучше. А Иван-царевич стоит в стороне один, повесивши голову и насупившись.
— Где же твоя невеста, Иванушка? — спрашивает царь.
А Лягушка выпрыгнула вперёд и квакает:
— Я, государь, твоего младшего сына невеста; только он не хочет своего царского слова исполнить, взять меня отказывается.
Поглядел старый царь на Лягушку и задумался: не простая это лягушка, и молвь у неё человечья, и рост не лягушачий.
— Ну, — говорит царь, — Иванушка, что ж ты молчишь? Правда ли, что своё слово сломать хочешь?
Махнул Иван-царевич рукой, вышел вперёд и рассказал отцу, как всё дело было, ничего не утаивши. Ещё пуще задумался царь, а потом говорит:
— Что же делать, сынок? Сказано: давши слово — держись. Значит, судьба твоя такая: женись на Лягушке.
Справили свадьбы. Старший царевич женился на княжне, средний — на генеральской дочери, а младший, Иван-ца-ревич, в корзинке Лягушку домой принёс. Сидит дома, никуда не выходит: стыдно на свет Божий показаться.
Через недолгое время присылает к нему старый царь слугу с наказом: хочет-де он узнать, какие его снохи мастерицы, — и велит им сшить ему назавтра к утру по рубашке. Выслушал Иван-царевич отцовский наказ и загрустил, призадумался.
«Разве, — думает, — может Лягушка к утру рубашку сшить?»
А Лягушка увидела, что Иван-царевич затосковал-запе-чалился, да и спрашивает:
— Какая, муженёк, забота у тебя на сердце?
— Эх, — говорит Иван-царевич, — слышала, что отец-то мне приказал?
— Ничего, муженёк, — говорит Лягушка, — не стыдись раньше времени, ложись-ка спать: утро вечера мудренее.
Как заснул Иван-царевич, Лягушка три раза оземь ударилась да и обернулась душой-девицей Марьей Прекрасной. Вышла она на крыльцо и крикнула:
— Эй, слуги мои верные, няньки-мамки, принесите мне сорочку, что мой батюшка по воскресеньям носит!
На другое утро проснулся Иван-царевич, а Лягушка ему говорит:
— Возьми-ка, муженёк, рубашку, что я твоему батюшке за ночь сшила.
Взял Иван-царевич рубашку и понёс отцу, а там уже старшие братья дожидаются.
— Здравствуйте, детки, — говорит старый царь, — покажите-ка ваших жён работу.
Сыновья поклонились, поднесли царю сорочки. Посмотрел царь на рубашку, которую старший сын поднёс.
— Ну, ничего, — говорит, — сойдёт в баню надевать.
Посмотрел на рубашку, что средний сын поднёс.
— Ладно, и в этой спать можно.
А как взглянул на рубашку, что Иван-царевич держал, так и ахнул.
— Эту, — говорит, — рубашку, коли доживу, в Светлый праздник надену.
Опять прошло немного времени, шлёт старый царь сыновьям наказ, чтобы испекли их жёны ему по хлебу: хочет-де он знать, хороши ли они по дому хозяйки. А старшая сноха решила выведать, как это выходит, что Лягушкина работа всегда лучше других оказывается. Послала она девку-чернавку посмотреть, как Лягушка хлеб будет печь. А Лягушка заболтала муку на холодной воде, выплеснула болтушку эту в печь и говорит Ивану-царевичу:
— Ложись-ка, муженёк, спать, не задумывайся: не осрамлю тебя перед батюшкой.
Рассказала старшим снохам девка-чернавка, что видела, а те так и сделали: повыплескали в печь на холодной воде болтушку, и вышло у них неведомо какое месиво вместо хлеба.
А Лягушка, как заснул Иван-царевич, опять ударилась оземь, обернулась Марьей Прекрасной, вышла на крыльцо и крикнула:
— Эй, няньки-мамки, сенные девки, принесите-ка мне хлеб, что у моего батюшки по праздникам на стол подают!
Наутро взял Иван-царевич хлеб и пошёл к отцу. Подносит старику отцу хлеб старший сын, попробовал царь.
— Ладно, — говорит, — у меня и слуги не хуже едят.
Поднёс средний сын, царь говорит:
— Что-то жёсток твой хлеб да горек.
А как попробовал хлеба, что Лягушка прислала, так и ахнул,
— Вот, — говорит, — это
мастерица пекла: кабы мне таким куличом на Пасху разговеться!.. Ну, детки, приводите теперь ваших жён ко мне на званый пир, хочу посмотреть, какие они на людях. Царице взаперти не сидеть: нужно, чтоб умела
и перед людьми показаться.
Вернулся Иван-царевич домой пуще прежнего невесел.
«Старших братьев жёны, — думает, — с малых лет середь людей, а моя — всё ж из болота лягушка!»
А Лягушка ему говорит:
— Не бойся, муженёк, ступай завтра на пир к батюшке. А как услышишь под окнами стук-гром — не робей, скажи: ишь, мол, моя Лягушонка в коробчонке тащится… Ложись-ка теперь спать, завтра рано вставать…
Утром встал Иван-царевич, нарядился и пошёл к отцу на званый пир. Приехали старшие братья с жёнами, гости собрались, а его жены нет как нет.
— Что ж моя младшая сношенька не жалует или больно долго ей в уборы наряжаться? — спрашивает Ивана-царевича отец.
Только царь это вымолвил, а тут под окнами стук-гром, весь дворец трясётся.
— А вот, — говорит Иван-царевич, — и моя Лягушонка в коробчонке, знать, тащится.
Все к окнам кинулись. Глядят: бегут ско / роходы, а за ними катит золотая карета, точно солнце блестит, — глядеть больно. Отворились дверцы золочёные, и выходит из кареты такая красавица, каких свет не видывал, в драгоценном уборе, в самоцветных каменьях. Вошла, взяла Ивана-царевича под руку.
— Прости, — говорит, — муженёк богоданный, что позамешкалась. Не хотелось твоему батюшке как-нибудь показаться.
Все гости, глядя на неё, только ахают; удивился и старый царь.
— Пожалуй, — говорит, — дорогая сношенька, к столу, садись со мною рядом.
Сели гости, принялись за угощенье.
Старших царских снох зависть берёт; сидят они посередь стола около мужей и всё высматривают, что-то младшая делать будет. А Марья Прекрасная, что кушает, объедки в правый рукав кладёт, что пьёт — недопитое в левый льёт… И они так же, как она.
Кончился пир, грянула музыка, стали гости танцевать.
— Ну-ка, сношеньки, пройдитесь с мужьями по-ве-сёлому, — говорит царь.
Марья Прекрасная не отказывается, подхватила Ивана-царевича под руку, пошла плясать… Махнула левым рукавом — явились озёра глубокие, махнула правым — поплыли по озёрам гуси-лебеди, серые утицы… Остановилась, и пропало всё. Стали плясать и старшие снохи: махнули левыми рукавами — всех гостей забрызгали, махнули правыми — чуть объедками старому царю глаз не выбили. Только срам один!
Царь не знает, как Ивана-царевича жену обласкать, где посадить, чем угостить, налюбоваться на неё не может, на шаг от себя не отпускает. А Иван-царевич не знает, радоваться ему или нет: вдруг жена-красавица опять Лягушкой обернётся… Улучил он минуту, кинулся домой и давай по всем углам обыскивать. Искал-искал, глядь — в печурке лягушечья кожа лежит. Он схватил её и в печь бросил, кожа вмиг и сгорела — а тут Марья Прекрасная вбежала; видно, что торопилась, раскраснелась даже вся.
— Ox, — говорит, — недоброе чует моё сердце… Что это палёным пахнет?
Кинулась к печке, глянула и давай плакать.
— Что ты, Иван-царевич, наделал! Не ты на меня эту кожу надел, не тебе её и снимать было! Ещё только три дня бы её мне носить, и была бы я тебе верной женой навек. А теперь прощай и не ищи меня; туда, где я теперь буду, никому не добраться!
Сказала это, обернулась белой лебедью и улетела…
Неутешно затосковал Иван-царевич. Унесла с собою Марья Прекрасная его сердце: полюбил он её пуще света белого, раз в человечьем облике увидавши. Из дома не выходил, извёлся от тоски — краше в гроб кладут. Одно ему утешенье: придёт в конюшню да с конём и с собакою, что ему Марья Прекрасная подарила, точно с живыми людьми, о жене разговаривает. А те будто понимают, смотрят ему в глаза жалобно; конь нет-нет да оглянется на дверь и ногой топнет, а собака выбежит наружу, потом вернётся тот же час и за полу хозяина к дверям тянет…
Запало Ивану-царевичу на мысль ехать жену отыскивать. Стал он у отца просить его родительского благословения. Царь сперва было отговаривал, а потом, когда поглядел, как извёлся сын от тоски, говорит:
— Бог с тобой, поезжай, сынок. Может, и удастся тебе отыскать твою наречённую жену.
Оседлал Иван-царевич своего вороного коня. Конь так и рвётся, пёс уж далеко вперёд за околицу выбежал, стоит ждёт — хозяина вести. И поехал царевич, куда глаза глядят, куда конь пойдёт, куда верный пёс поведёт. Долго ли, коротко ли ехал он через степи широкие, через горы высокие, через леса дремучие, через болота зыбучие… Что на другом коне в год бы не проехать, то он на своём в неделю проезжал. Пёс всё впереди бежит,
дорогу показывает. И наехал Иван-царевич через полгода в дремучем лесу на избушку на курьих ножках. Вошёл он в неё, а в избушке сидит старая-престарая старуха.
— Здравствуй, — говорит она, — Иван-царевич, племянницы моей наречённый муж! Давно уж пора бы тебе быть. Слыхала я недобрые вести.
— А что ж ты, бабушка, слышала? — спрашивает Иван-царевич.
— Вот что, Иванушка: жену твою, Марью Прекрасную, давно уже сватал страшный колдун Железная Голова. Не хотела она за него идти. Он и наложил на неё заклятье, чтоб быть ей лягушкой три года. За три дня до срока сжёг ты её лягушечью кожу, оттого и не кончилось над ней колдовство. Опять она теперь у колдуна Железной Головы в руках, и слышала я, что через полгода женится он на ней. А колдун этот страшный и могучий — никогда с головы своей железной шапки не снимает, и лица его потому никто не видел. Поезжай, царевич, ты к моей средней сестре. У ней силы много больше моего, может, она тебе чем поможет.
Едет дальше Иван-царевич; месяц едет, и другой, и третий — наконец, наехал в дремучем лесу на избушку, а в ней сидит старая-престарая старуха.
— Ой, Иван-царевич, племянницы моей, Марьи Прекрасной, наречённый муж, — говорит она ему, — торопись ты жену свою выручить, коли сможешь. Через три месяца женится на ней колдун Железная Голова, а езды до его берлоги от меня тридцать лет. Давай привяжу я твоему коню крылья, чтоб поспевал ты скорее, а там
уж что Бог даст. Да заезжай ты по пути к моей старшей сестре. У ней силы больше моего, может, она тебе чем поможет.
Полетел конь Ивана-царевича быстрым соколом — и пёс верный от них не отстаёт, — и прискакали они через два месяца и двадцать девять дней к третьей избушке, а в ней сидит старая-престарая старуха.
— Ох, запоздал ты, Иван-царевич, — говорит она ему, — послезавтра будет свадьба Марьи Прекрасной с колдуном Железная Голова, а езды до него от моей избушки ещё десять лет. Давай привяжу я к твоему коню мои быстролётные крылья — с ними поспеешь. Придётся тебе смертным боем с Железной Головой из-за жены биться, и вот тебе мой совет: изловчись ему в лицо горсть земли кинуть — без этого его ничем не возьмёшь. Да гляди, чтобы земля ему в открытое лицо попала. Помогут тебе в этом твои верные слуги, конь
и собака, твоей жены подарки. И хоть из того боя им живым не выйти — не изменят они тебе до последнего вздоха. Так ли я говорю, хозяина своего слуги верные?
Конь Ивану-царевичу голову на плечо положил и в лицо дохнул, а пёс руку лизнул.
— Ну, — говорит старуха, — эти не выдадут!
Словно ветер, понёсся конь. Отстаёт собака, не под силу ей за четырьмя крыльями поспевать. А ждать некогда. На исходе второго дня налетел Иван-царе-вич на свадебный поезд. Впереди едет колдун Железная Голова, весь в булат закованный, а сзади в золотой карете Марья Прекрасная, по рукам-ногам связанная, бьётся.
— Стой! — грозно крикнул Иван-царевич Железной Голове. — От живого мужа ты жену вздумал взять! Не отдам её тебе без смертного боя!
Тут колдун поворотился, ударил коня, выхватил меч и кинулся на Ивана-царевича, бьёт-сечёт его мечом — только искры сыпятся, насилу Иван-царевич обороняться поспевает…
Ударил вострый меч коню царевичеву посередь ушей, и свалился добрый конь бездыханным — только-только царевич соскочить успел. Рубит его колдун, пешего, мечом, топчет конём, — не поспевает царевич увёртываться, уж из левого плеча ключом горячая кровь хлынула. Слабеет царевич, вот-вот под ноги коню свалится.
Вдруг точно птица мимо царевича пролетела. Поспела собака в последнюю минуту и ударила колдуна грудью в железную шапку. Полетела шапка в одну сторону, а верный пёс, мёртвый, — в другую.
И глядит на Ивана-царевича с плеч колдуна страшная голова, какой ни один человек в жизни не видел.
Тут Иван-царевич догадлив был, схватил горсть земли, швырнул её прямо в глаза колдуну — и свалился тот с коня, как мешок с овсом, только кости в доспехах загремели.
Помогли тут Ивану-царевичу и Марье Прекрасной быстролётные крылышки, что к коню были привязаны. На них скоро поспели они в свою родную сторону. Несказанно старый царь обрадовался, как увидел своего сына милого с женою-красавицей в целости и сохранности, передал Ивану-царевичу всё своё царство да в недолгом времени и помер.
Иван-царевич про братьев не забыл, главными министрами их поставил, а сам царствовал с супругой своею Марьей Прекрасной многие лета.
КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ
В неведомых землях, на горах, на водах, не в наших городах, на море, на океане, на острове Буяне, стоит дуб зелёный, под дубом бык печёный, в боку у него нож точёный, на блюде чеснок толчёный; с одного бока режь, а с другого макай да ешь. И это ещё не сказка, только присказка. А кто сказку будет слушать — тому соболь, куница да красная девица, сто рублей на свадьбу да пятьсот на гулянье…
Были у царя с царицей три дочки, а сына-наследника не было. Так они совсем изгоревались, что всякую надежду потеряли. Наконец родился у царицы сынок. Назвали его отец с матерью Иваном-царевичем. Любили и берегли Иванушку несказанно. Царь сыночка всегда сам убаюкивал, качает люльку и поёт:
Баю, баю, баю, бай!
Глазки закрывай.
Будешь, Ванюшка, большой —
Награжу тебя женой,
Ненаглядною красой
С золотистою косой,
Марьюшкой Моревной,
Доброй королевной.
Она за морем живёт,
Там, где солнышко встаёт,
Она утренней росою умывается,
Пёстрой радугой-ширинкой утирается. Оттого она белее белой пены морской, Её оченьки яснее светлых звёздочек…
Каждый вечер пел сыну царь эту песенку. Споёт раз, другой — глядь: уж и заснул сынок сладким сном.
Время идёт да идёт, а Иван-царевич растёт да растёт — точно тесто на опаре поднимается. Каковы другие ребята в десять лет — он в два года таков; каковы другие в двадцать — он такой по пятому году…
В ту пору стряслось с Иваном-царевичем великое горе: померли его родители в один день, в один час, и остался он сам хозяином и в доме, и в царстве, и над тремя сёстрами старшим.
Раз сидит Иван-царевич в своём зелёном саду пригорюнившись, вдруг затмила свет чёрная туча, ветер завыл, деревья к земле приклонились, затряслась, застонала мать сыра земля — и явились пред царевичем три добрых молодца: Ясный Сокол — птичий царь, Медведь — звериный царь да Змей — змеиный и рыбий царь.
— Здравствуй, Иван-царевич, над своей семьёй старший. Мы к тебе с добрым словом за хорошим делом: выдай за нас твоих сестриц замуж! Все мы трое родом тебя не ниже, богатством не беднее.
Призадумался Иван-царевич да и говорит им:
— Я с своих сестёр воли не снимаю: им за вами жить. Коли они согласятся, и я с вами породнюсь.
Послали за царевнами. Сёстры поломались, да и согласились. У царей ведь не пиво варить, а в шелках ходить. Так,
весёлым пирком да за свадебку, — и вышла старшая царевна за Ясного Сокола, средняя — за Медведя-царя, а младшая — за Змея-царя.
Вскорости после свадьбы стали зятья с молодыми жёнами домой собираться, Ивана-царевича за его привет да за ласку благодарить. Птичий царь подарил ему на прощанье воробышка, звериный царь — крысёнка, а змеиный царь — лягушонка. Поклонились они ему до земли да напоследок молвили:
— Захочешь, дорогой зять, сестёр своих проведать, нашего хлеба-соли отведать — пусти вперёд себя этих ответчиков: они тебя до нас прямой дорогой доведут.
Распрощались и уехали в свои царства.
Остался Иван-царевич в своём дворце один-оди-нёшенек; из горницы в горницу ходит, по зелёну саду бродит, а сам всё думу думает:
«Скучно-грустно молодцу век одному коротать! Обещал мне батюшка невесту, ненаглядную красоту Марью Моревну. А где ж она? Пора уж мне свет повидать, людей посмотреть, себя показать. Поеду-ка я на все четыре стороны, на все ветры буйные, на все вьюги зимние, на все вихри осенние, отыщу свою суженую».
Сказано — сделано. Оседлал Иван-царевич своего доброго коня, хотел было уже ехать куда глаза глядят, да задумался:
«Где мне мою Марью Моревну искать, в каких землях, в каких городах? Велик белый свет, вовек его не объедешь. Поеду-ка сперва зятьёв своих навещу; они хитры-мудры, по горам, по долам, по глубоким пропастям бродят, выше облаков носятся, по глуби моря синего плавают — может, знают, где моя суженая».
Сел Иван-царевич на коня и пустил вперёд воробышка. Воробышек вперёд летит, с куста на кустик, с деревца на деревцо перепархивает, насилу поспевает за ним Иван-царевич…
Ехал он, ехал — долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, близко ли, далёко ли, день коротается, ночь надвигается — и выехал на широкую поляну. А средь той поляны стоит двор — что царство, дом — что город. Вдруг выбежала из ворот его старшая сестрица, взяла брата за руки белые, поцеловала в уста сахарные, ввела в палаты белокаменные, усадила за столы дубовые.
— Ах, братец родимый, — говорит, — что долго не бывал? Мы с мужем об тебе давно соскучились…
Тут вошёл и старший зять — Ясный Сокол, птичий царь, и началось у них веселье: стали они гулять, стал зять Ивана-царевича яствами заморскими угощать… Пировали они три дня, три ночи — и стал Иван-царевич отпрашиваться:
— Отпусти меня, милый зять, куда мне путь лежит.
— А в какую сторону, Иван-царевич, ты свой путь держишь?
— Еду я искать свою суженую, Марью Моревну, ненаглядную красу, родителем мне обещанную. Не знаешь ли ты, где её царство?
Задумался Ясный Сокол, птичий царь.
— По всему, кажись, белому свету я летал, а про Марью Моревну, твою суженую, и не слыхивал.
Вышел он на высокое крыльцо, свистнул молодецким посвистом, крикнул громким голосом:
— Эй вы, слуги мои верные, птицы летучие, собирайтесь, слетайтесь на широкий двор, держите мне ответ без утайки!..
Не чёрные тучи со всех сторон надвигалися — слетался весь птичий народ, собралось птиц видимо-невидимо. Спрашивает их Ясный Сокол, птичий царь:
— Все ли вы собрались сюда?
— Все до единой малой пичужки, — отвечают.
— Кто из вас, слуги мои верные, знает, где царство Марьи Моревны, ненаглядной красы, моего зятя суженой?
Молчит весь птичий народ, большой за среднего хоронится, средний за малого прячется, а от малого ответа нет — никто об Марье Моревне и слыхом не слыхивал.
— Прости, Иван-царевич, — говорит Ясный Сокол, птичий царь. — Рад бы, да не могу я услужить тебе. Съезди
к другим твоим зятьям: может, знают они, где искать твою суженую.
Вздохнул Иван-царевич, с сестрой, с зятем попрощался да живо в путь собрался; сел на своего доброго коня и пустил вперёд крысёнка.
Крысёнок вперёд бежит, меж кореньев, меж камешков шмыгает — насилу Иван-царевич за ним поспевает. Долго ли, коротко ли, добрался Иван-царевич до двора другого своего зятя, Медведя, звериного царя. Зять с сестрой ему обрадовались; обнимали, целовали, всякими яствами да питьём угощали. А как стал Иван-царевич про Марью Моревну спрашивать — царь Медведь отказывается.
— Не знаю, — говорит, — никогда и не слыхивал. Соберу сейчас весь звериный народ: может, кто-нибудь и знает, где твоя суженая.
Вышел Медведь на высокое крыльцо и стал громким рыком скликать всё звериное царство от мала до велика. Собрались на царский двор все звери со всего света, до самого малого мышоночка, — только никто из них и слыхом не слыхивал про Марью Моревну.
Нечего делать, выпустил Иван-царевич лягушонка и поехал за ним к третьему своему зятю — Змею. Лягушонок вперёд скачет, насилу за ним Иван-царевич поспевает. Долго ли, коротко ли, доехал он до синего моря. На берегу стоят палаты белокаменные, серебром, золотом, скатным жемчугом изукрашенные. Только подъехал Иван-царевич — выбежала на крыльцо его младшая сестрица, а за ней и муж её, добрый молодец, змеиный и рыбий царь. Стали они царевича обнимать, целовать, ввели его в палаты белокаменные, усадили за столы дубовые, за скатерти белые. Угощали гостя дорогого три дня, три ночи; напоследок говорит Ивану-царевичу зять:
— Слышал я, что ищешь ты свою суженую, ненаглядную красу Марью Моревну?
— А откуда тебе то ведомо? — спрашивает Иван-царевич.
— Мне ли, змеиному царю, не знать, что делается на свете; только одного не знаю — где живёт Марья Моревна. Пойдём на крыльцо: сегодня приказал
я собраться всем моим подданным ответчикам.
Вышли они на высокое крыльцо — и диву дался Иван-царевич: сколько кругом глазом окинешь — по всей земле змеи и всякие гады кишмя кишат, от рыбьих голов в море воды не видно… Спрашивает своих подданных Змей-царь:
— Ой вы, слуги мои верные, правдивые ответчики! Не знаете ли, где царство неописанной красы Марьи Моревны, моего зятя суженой?
Молчат все змеи, гады и рыбы, большой за среднего хоронится, средний малым прикрывается, а от малого ответа нет…
— А все ли вы собрались по моему приказу? — спрашивает Змей-царь.
— Нет, государь, — отвечают подданные, — самой старой, колченогой лягушки не хватает.
— Где ж она? — вскричал Змей-царь.
Вдруг глядь — а лягушка тут как тут, ползёт, еле ноги волочит. Спрашивает её Змей-царь:
— Где пропадала? Почему по моему приказу вовремя не явилась?
— Ох, прости, государь! — отвечает лягушка. — Больно далеко была: у самой Марьи Моревны, золотой косы, неописанной красы, — там, где солнышко восходит из-за синя моря. Сватаются за Марью три чужестранных богатыря — пришлось мне, старухе, у неё сватьей быть.
— Ну, Иван-царевич, дорогой зятюшка, — говорит Змей-царь, — вот тебе от меня Лягушка в помощницы; она тебя и проведёт, куда тебе надобно, и уму-разуму научит, как добыть Марью Моревну. Поезжай за невестой, коли не боишься.
— А как к Марье Моревне добраться, — спрашивает Иван-царевич у Лягушки, — на коне надо ехать или пешком идти?
— Нет, царевич, — отвечает Лягушка, — к ней ни конём не доедешь, ни пешком не дойдёшь; плыть надо через сине море. Возьми с собой еды на месяц да стеклянную банку и приходи на берег.
Мигом добыл Иван-царевич, что Лягушка велела, и пришёл на берег, смотрит — Лягушка с сенной стог раздулась, спрыгнула с берега в воду — точно корабль, плавает.
— Ну, царевич, — говорит, — садись мне на спину, поплывём скорее: коли хочешь добыть Марью Моревну, мешкать некогда.
Плывёт Лягушка с царевичем на спине, будто корабль по ветру несётся; день коротается, ночь надвигается, ночь проходит, из-за моря солнышко выходит… На тридцатые сутки подплыла Лягушка к царству Марьи Моревны.
— Слезай, Иван-царевич, на берег, посади меня в стеклянную банку и неси с собой в город твоей суженой. Я тебя доброму научу.
Вымолвила это Лягушка, перекувырнулась — и стала опять маленькой.
Пришёл Иван-царевич в большой город и попросился ночевать у бабушки-задворенки.
— Ах, Иван-царевич, — говорит бабушка-задво-ренка, — в какое время ты явился! Ведь наехали сюда три сильномогучих богатыря из басурманских стран — к нашей царевне Марье Моревне свататься, и завтра будет между богатырями смертный бой. Кто других победит, тот и Марью Моревну за себя возьмёт; а тебе, Иван-царевич, куда против них выйти: они в день едят по пяти коров, выпивают вина по пяти чанов.
А Лягушка Ивану-царевичу из банки квакает:
— Ничего, Иван-царевич, ложись-ка спать, завтра рано вставать; утро вечера мудренее. Коли Марья Моревна — твоя суженая, так суженой и конём не объедешь. А про чужестранных богатырей не очень думай: мало ли что! Была, сказывают, у нашего царя корова обжорлива, по стогу сена в раз поедала, пруд воды одним духом
выпивала, а всего только что объелась да и лопнула, а худого никому не сделала.
Поутру Иван-царевич встал ранёхонько, умылся белёхонько, снарядился и пошёл к обедне. Пришёл в церковь, образам помолился, на все стороны поклонился, Марье Моревне в особицу; стоят они рядом да Богу молятся. Стали из церкви выходить — он с Марьи Моревны глаз не сводит, что за невиданная краса: алый цвет по лицу расстилается, белый пух по груди рассыпается, видно, как кровь из жилочки в жилочку переливается. И она на царевича украдкой поглядывает: какой такой чужестранный красавец объявился — кудри чёрные, очи соколиные, брови соболиные, ухватки молодецкие!
Вскоре на широкой площади стали басурманские богатыри собираться, чтобы между собой за Марью Моревну смертным боем биться. В первый день младший богатырь со средним схватился, долго бились и копьями долгомерными, и мечами булатными, и топорами тяжёлыми, наконец повалил средний богатырь младшего… Не стала глядеть Марья Моревна, отвернулась и ушла в свой дворец. А Иван-царевич пошёл к бабушке-задворенке.
— Что, царевич, видел Марью Моревну? — спрашивает Лягушка.
— Видел и вовек теперь не забуду.
— Ну, не печалься; теперь из трёх ведь только двое богатырей против тебя осталось.
На другое утро встал Иван-царевич рано, умылся, нарядился, Богу помолился, на все четыре стороны поклонился
и пошёл в церковь к обедне. Отстоял обедню, идёт на выход сзади Марьи Моревны; вдруг обернулась она и спрашивает:
— Ты скажи, чужестранный гость, каких ты родов, из каких городов, как тебя по имени зовут, почему ты в церкви рядом со мной становишься?
Отвечает ей Иван-царевич:
— Потому, ненаглядная краса Марья Моревна, я в церкви рядом с тобой становлюсь, что ты моя суженая.
И рассказал ей Иван-царевич, какого он отца сын и как ему отец Марью Моревну в жёны обещал.
— Ах, Иван-царевич, ведь и мне мой отец тебя в мужья прочил, и вышла бы я за тебя с охотою, да что теперь делать: эти басурманские богатыри всё моё войско побили и меня силком берут.
— Ничего, не бойся, Марья Моревна, ненаглядная моя красота, — говорит Иван-царевич, — вот сегодня из трёх твоих женихов только один живым останется, а с последним я и сам, бог даст, завтра справлюсь.
Вскорости начался на площади между басурманскими богатырями второй бой за Марью Моревну. Одолел старший богатырь своего супротивника, убил его вострым копьём.
— Теперь, — кричит, — ты моя, Марья Моревна, никому тебя не уступлю!
А Иван-царевич вышел вперёд и говорит:
— Нет, погоди. Не зван на пир хлеб-соль кушаешь; не поймав, белую лебедь рушаешь. Надо ещё тебе завтра со мной из-за Марьи Моревны сразиться.
— Ах ты, комаришка! Да мне супротивник ещё не родился. А тебя на одну руку сейчас посажу, другой прихлопну — только мокренько станет…
— Не насильничай, басурманский богатырь, — говорит Марья Моревна. — Видишь, перед тобой Иван-царе-вич безоружен стоит. Бейся с ним завтра, коли не боишься.
Пришёл Иван-царевич к бабушке-задворенке.
— Ну вот, теперь один тебе супротивник остался, — говорит Лягушка. — Выходи завтра против него смело; только чтоб был у вас не конный, а пеший бой, да меня с собой возьми за пазухой.
На третье утро встал Иван-царевич, сходил в церковь к обедне, с Марьей Моревной повидался и вышел на широкую площадь. На другом конце басурманский богатырь на коне, словно сенная копна, сидит.
— Погоди, — говорит ему Иван-царевич, — видишь, я пеший; только два дня как из-за моря приплыл, не нашёл ещё себе коня богатырского. Давай вровень, пешими, биться!
Басурманский богатырь подъехал, слез с коня и только было на Ивана-царевича кинулся, чтоб его мечом изрубить, подвернулась ему под ногу Лягушка, что у царевича из-за пазухи выскочила; поскользнулся богатырь, покачнулся, руками взмахнул… А Иван-царевич на тот случай догадлив был: разогнал по жилам свою кровь горячую, дал простор ретивым плечам, стал басурмана сечь да рубить… Тут богатырю и конец пришёл.
Весёлым пирком да за свадебку; женился Иван-царе-вич на Марье Моревне, стали они жить-поживать в ладу да согласии. Только спустя недолгое время говорит мужу Марья Моревна:
— Надо мне, богоданный муж, поехать, старика дедушку моего, Морского царя, проведать. Поеду я ненадолго; ты меня жди: по всему дворцу нашему ходи, за всем хозяйством приглядывай, только не заходи в ту горницу, что заперта тремя засовами железными.
Лишь Марья Моревна уехала, не вытерпел Иван-царе-вич. «Что, — думает, — от меня жена в той горнице прячет?»
Отодвинул железные запоры, глядь — а там Кощей висит, двенадцатью цепями к стене прикованный, словно смерть, тощий… Просит Кощей у Ивана-царевича:
— Дай мне, Иван-царевич, воды напиться! Десять лет — с самой той поры, как я здесь прикован, — капли у меня во рту не было. Несказанно ведь я мучаюсь!..
Ивану-царевичу его жалко стало, принёс он Кощею ведро воды. Выпил Кощей всё до капли и ещё запросил:
— Дай ещё — ведром мне жажды не залить.
Царевич принёс другое ведро; Кощей выпил, просит
ещё. Дал ему Иван-царевич третье ведро. Как выпил Кощей третье ведро, вернулась к нему сила прежняя, встряхнулся он да оборвал все двенадцать железных цепей, словно тонкие нитки…
— Благодарствую тебе, Иван-царевич, за то, что ты меня выручил, помог мне жену твою Марью Моревну к себе наконец унести. Из-за неё я с её отцом бился. Не быть бы мне живому, да я — Бессмертный. Ну а теперь уж вовек не видать тебе Марьи Моревны.
Сказал это Кощей — и чёрным вихрем в окно вылетел…
Затужил-загоревал Иван-царевич. Ждёт свою жену Марью Моревну, ненаглядную красоту, день, другой; вдруг ворочаются её провожатые.
— Беда, — говорят, — налетел в пути на нас страшный вихрь, подхватил царицу, вмиг унёс неведомо куда.
Горько-горько заплакал Иван-царевич; собрался, снарядился, сел на корабль и поехал через синее море.
«Что ни будет, — думает, — а разыщу я мою жену Марью Моревну!»
Долго ли, коротко ли плыл он — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — наконец пристал к берегу, где было царство его зятя, змеиного царя. На ту пору у Змея-царя шёл пир на весь мир, собралось гостей со всех волостей многое множество, приехали и другие зятья Ивана-царевича, Сокол-царь и Медведь-царь. Стал Иван-царевич зятьям свою беду рассказывать, как унёс у него жену Кощей. Говорят ему зятья:
— Знаем мы этого Кощея, и дорогу к нему показать можно, только в царство его нам войти нельзя, потому что он — страшный колдун и царство своё заколдовал, чтобы зверь через него не прорыскивал, птица не про-лётывала, змея не проползала — и всё из жадности, чтоб никакая тварь его добром не поживилась.
Потому нам, царям, вход в его царство заказан.
А если хочешь, Иван-царевич, мы тебя до ворот его доведём, а дальше уж сам управляйся. Только ты оставь нам твои серебряные ложку,
вилку и ножик. Коли серебро почернеет, по тому узнаем мы, что с тобой беда приключилась, и вмиг на помощь придём.
Хоть и жутко Ивану-царевичу одному без помощи в Кощееву берлогу забираться, да делать нечего — охота пуще неволи. Собрался Иван-царевич, сел на коня и поехал; зятья, его до Кощеева царства проводивши, назад вернулись, а он едет всё вперёд, чтоб найти-увезти свою ненаглядную Марью Моревну. Страшно кругом: сколько глазом видно, всё песок сыпучий да камни горами навалены; ни былинки, ни травинки, ни деревца; солнце жжёт, жажда донимает…
Долго ли, коротко ли — вдруг увидал Иван-царевич среди каменных гор на голом месте большой дом, из серых камней сложенный. Вошёл он в дом — пусто,
тихо, точно всё вымерло. Идёт дальше из горницы в горницу — всё то же: окна паутиной затянуты, на полу пыль слеглась; толкнул он маленькую дверку, глядь — сидит в маленькой горенке Марья Моревна, горькими слезами обливается. Кинулся к ней Иван-царевич, обнялись они, вместе заплакали.
— Ох, — говорит Марья Моревна, — зачем ты меня не послушал, Кощея выпустил, меня ему на лютую муку отдал!
— Не поминай старого, и мне не легче тебя. Уедем скорее отсюда, пока Кощея не видать. Мой конь у дверей дожидается.
Вышли, сели на коня и поскакали во всю прыть.
Вечером Кощей домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается.
— Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься? Или чуешь какую невзгоду?
Отвечает конь:
— Иван-царевич был, Марью Моревну увёз.
— А догонишь их?
— Пшеницы насей, пусть вырастет, сожни, обмолоти, обмели, хлеба напеки — тогда поедем и то догоним!
Поскакал Кощей в погоню, мигом догнал Ивана-царе-вича.
— Ну, на первый раз прощаю тебя, — говорит, — за то, что меня водой напоил. Смотри, в другой раз не попадайся — в куски изрублю.
И отнял Марью Моревну.
Заплакал горько Иван-царевич, слез с коня, сел на бел-горюч камень и задумался:
«Неужели мне ненаглядную мою Марью Моревну так и отдать Кощею. Лучше и на белом свете не жить!»
Махнул рукой и поехал опять к Кощееву дому. Увидала мужа в окошко Марья Моревна, испугалась:
— Ах, Иван-царевич, что ты наделал, зачем вернулся? Ведь Кощей теперь пощады тебе не даст!
— Пускай, — говорит Иван-царевич, — а только мне без тебя не жить. Поедем отсюда, хоть час вместе: а потом не жаль мне и головы!
— Погоди, — говорит Марья Моревна, — пойдём на хитрости. Чем Кощею под меч голову подставлять, поезжай ты скорей назад, отыщи Бабу-ягу и добудь у неё её коня. Ведь Кощей своего коня от неё доставал. Может быть, как поедем на том коне, он нас не догонит. А даст тебе Яга жеребёнка, если ты пропасёшь её кобылиц три ночи.
И рассказала Марья Моревна мужу, где Бабу-ягу найти.
Поцеловались они, помиловались, и поехал Иван-царевич своим же следом назад через Кощеево царство.
Выехал благополучно, доехал до дворца своего зятя, змеиного царя.
Змей-царь его выслушал и говорит:
— Умница у тебя жена, Иван-царевич, хорошо она тебе посоветовала. Поезжай теперь к Бабе-яге, а мы тебе поможем её кобылиц три ночи выпасти. Только смотри: когда даст тебе Яга коня выбирать, бери самого захудалого жеребёнка, что сзади всего табуна плестись будет.
Вот и поехал Иван-царевич к Бабе-яге через пески сыпучие, через леса дремучие, через болота зыбучие.
Долго ли, коротко ли ехал он, — день коротается, ночь надвигается, — и наехал в самом глухом бору на избушку; стоит избушка на курьих ножках, на бараньих рожках, кругом поворачивается.
Смотрит он на избушку — хорошо бы в неё войти, переночевать, да нельзя: всё она вертится. А тут ночь наступила, ветер завыл…
Вдруг закрутилось, замутилось всё, будто вихрь промчался. Поднялась земля бугром; из-под земли — камень, а из-под камня — Баба-яга, костяная нога.
— Фу-фу-фу! — кричит. — Доселе русского духа слыхом не слыхать, видом не видать, а ныне русский дух сам явился, на ложку садится, в рот катится! Зачем, молодец, ко мне пожаловал?
— Приехал я, Баба-яга, к тебе за конём от твоих кобылиц.
— Ну, что ж. А уговор знаешь? Выпасешь их три ночи — выбирай себе любого коня; хоть одну потеряешь — будешь моим вечным работником, под землёй сырой хлеб молотить.
Подумал Иван-царевич, да делать нечего — согласился.
Привела его Яга в свои загоны широкие, а в тех загонах двенадцать кобылиц с жеребятами.
Стала Яга их выгонять — каждую мимо себя пропускает, каждой на ухо нашёптывает.
А потом говорит:
— Погони их теперь, добрый молодец, в зелёные луга, в спелые стога, паси да уговор помни.
Только выгнал Иван-царевич кобылиц в зелёные луга, как ударились кобылицы бежать в разные стороны — мигом из глаз пропали. Что тут делать? Закручинился царевич, запечалился; вдруг подлетел к нему ясный сокол, ударился оземь и обернулся добрым молодцом, его зятем, птичьим царём.
— Не тужи, царевич, — говорит, — ложись да спи до утра богатырским сном, утром все кобылицы сами к тебе прибегут.
Сказал так, обернулся опять ясным соколом и улетел с глаз.
Наутро, только стало солнышко всходить, вылезла Баба-яга на крылечко, глядь — идёт Иван-царевич, прутиком помахивает, гонит впереди себя двенадцать кобылиц с жеребятами. Так Баба-яга и затряслась со злости; послала Ивана-царевича спать, а сама давай кобылиц помелом колотить. Бьёт да приговаривает:
— Слушайтесь, коли велела вам только к вечеру вернуться!
Отзываются ей кобылицы:
— Сил наших не было… Налетели на нас птицы со всего света, бьют, клюют — неволей к пастуху согнали…
Вечером опять выгнал Иван-царевич кобылиц в зелёные луга, только пустились кобылицы во все стороны, как явился Медведь-царь. Послал на табун волков да медведей со всего света, и согнали они кобылиц к пастуху на утренней заре.
На третью ночь ещё хуже кобылицам пришлось… Стала их поутру Баба-яга допрашивать, почему они её не послушались, пастуху покорились, а они совсем измучены, еле дух переводят.
— Далеко, — отзываются, — мы от него забежали, и к вечеру сегодня бы нам домой не собраться, да напали на нас змеи и гады со всего света — шипят,
жалят, — пригнали к пастуху ещё до зари и шага от него отойти не дали.
Делать нечего: слово дано, поздно назад пятиться, разбудила Яга Ивана-царевича.
— Твоё счастье, — говорит, — выбирай себе конька, какой полюбится.
А Иван-царевич с радости и забыл наказ Змея-зятя; выбрал самого показного жеребёночка — на того замо-рышка, что сзади табуна плёлся, и не поглядел…
Сел он на своего добра коня — под ним конь бежит, земля дрожит, из-под копыт ископыть по всей земле летит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет… Не успела бы стриженая девка косы заплести, уж он подъехал ко дворцу Кощееву, ухватил свою ненаглядную Марью Моревну и помчался с ней, как стрела из лука.
Только что они отъехали. Кощей домой ворочается, под ним конь спотыкается…
— Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься? Иль беду чуешь?
— Иван-царевич опять приезжал, Марью Моревну увёз.
— А сможешь догнать?
— Надо бы догнать: под ним мой младший брат; кабы взял он у Бабы-яги заморышка, что сзади табуна плёлся, — не догнать бы его и ветру буйному, — отвечает Кощеев конь.
Тут ударил Кощей коня по крутым бёдрам. Под ним конь взъярился, от сырой земли поднялся да понёс седока выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего…
Уж доскакал Иван-царевич до края проклятой земли, уж его конь передними ногами на святорусскую землю стал — догнал их в ту минуту Кощей, убил Ивана-царе-вича, разрубил его тело на мелкие кусочки и Марью Моревну назад к себе увёз.
В ту пору потускнело серебро у зятей Ивана-царевича; потускнело, почернело да заржавело. Съехались они вместе у Змея-царя.
— Ох, беда с Иваном-царевичем приключилась; надо ехать скорей — не поможем ли.
У границы Кощеева царства наехали они на мёртвое тело; лежит Иван-царевич, на куски разрубленный, а рядом богатырский конь ходит. Тотчас обернулся птичий царь ясным соколом, взвился высоко-высоко, ударил сверху и зашиб воронёнка.
Говорит ему Чёрный Ворон:
— За что, царь, сына моего погубил?
— Ни за что, — отвечает Ясный Сокол, — а затем, чтобы слетал ты, Ворон, и добыл мне
живой и мёртвой воды.
Полетел Чёрный Ворон и принёс под обоими крыльями по горсти мёртвой и живой воды. Сбрызнули зятья воронёнка — ожил он и улетел; сбрызнули Ивана-царевича — ожил он, целёхонек поднялся.
— Ох, — говорит, — как недолго я спал!
— И спать бы тебе до конца веку, кабы не мы! — отвечает ему Змей-царь.
Одумался Иван-царевич, вспомнил, что с ним приключилось, и заплакал.
— Зачем, — говорит, — вы меня оживили! Всё равно мне не жить без Марьи Моревны. Поеду
сейчас опять за ней в Кощееву берлогу.
Как ни отговаривали зятья Ивана-царевича — не могли отговорить.
— Что с тобой делать, — говорит Змей-царь, — поезжай на свою погибель. А всё же спастись попытайся: попроси твою жену
Марью Моревну, чтоб она доведалась у Кощея: где его смерть запрятана?
Может, удастся его смерть отыскать, в том мы тебе поможем.
Приехал Иван-царевич в третий раз к Кощееву дому — Марья Моревна и глазам своим не верит, и обрадовалась, и испугалась пуще прежнего. Рассказал ей Иван-царевич всё: как зятья его оживили, чему научили.
— Хорошо, — говорит она, — надо последнюю надежду попытать.
И спрятала Ивана-царевича в отдалённой комнате.
Вечером приехал Кощей с добычи — Марья Моревна его не по-прежнему, а весело встретила, стала к нему ласкаться, а потом спрашивает:
— Отчего это тебя, Кощеюшка, Бессмертным зовут?
— А оттого, что никому не узнать, где моя смерть спрятана.
— Неужели и я этого знать не могу?
— Зачем тебе?
— Я бы оберегала-стерегла, чтоб никто до твоей смерти не добрался, мой Кощеюшка, чтоб мне, сироте, без тебя одинокой не остаться.
— Ишь ты, — говорит Кощей, — ну, ладно, уж тебе я скажу: моя смерть в рогах того козла спрятана, что у нас на конюшне.
Приезжает Кощей с добычи на другой вечер, глядь — по горнице конюшенный козёл ходит, а рога у него золочёны, как жар горят.
— Это что такое? — спрашивает Кощей у Марьи Моревны.
А она ему:
— Я нарочно козла теперь около себя держу и рога ему вызолотила, чтоб всегда твою смерть беречь.
— Эка, правду говорят: у бабы волос долог, да ум короток! Гони козла назад в конюшню: моя смерть в том венике, что под печью валяется.
Смотрит Кощей на другой вечер — а веник, уж весь золотом и дорогими камнями убранный, лежит на столе в серебряной миске. Давай Кощей смеяться:
— Эка бабы! Что им ни скажи, всему верят. Может ли это быть, чтобы моя смерть была в венике запрятана? Ну, слушай, Марья Моревна, за твою ко мне любовь я, так и быть, уж скажу тебе правду: далекодалеко отсюда, на море на океане, есть остров Буян; на том острове растёт дуб; под тем дубом железный сундук
зарыт, в том сундуке, за двенадцатью замками булатными, заперт заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в том яйце огонь теплится. Если это яйцо добыть, разбить и огонь потушить — тогда мне и смерть придёт. Да где туда человеку добраться!
Наутро, только Кощей уехал за добычей, Марья Моревна выпустила Ивана-царевича и рассказала ему, где Кощееву смерть искать. Выбрался Иван-царевич из проклятого царства, доехал до Змея-зятя.
— Ну, — говорит змеиный царь, — надо последнее средство испытать. Созову я других твоих зятьёв, доберёмся до острова Буяна, попробуем Кощееву смерть добыть…
Долго ли, коротко ли — время идёт да идёт, а Иван-царевич по морю-океану вместе с зятьями плывёт. Немало довелось им беды избыть, а добрались они всё-таки до острова Буяна.
Посреди того острова стоит дуб, да такой старый да суковатый, что пяти человекам его не обхватить, а царь Медведь только качнул его — и вывернул с корнями.
Стала на месте дуба глубокая яма, а в той яме виден крепкий железный сундук, двенадцатью обручами окованный, двенадцатью замками булатными запертый; не разбить его ни топорами, ни ломами, а царь Медведь только дёрнул за крышку — она так и отскочила. Вырвался из того сундука серый заяц, заложил уши и пустился бежать неведомо куда. Где его поймать!.. А Ясный Сокол, птичий царь, взвился кверху, нагнал, ударил зайца и принёс его к Ивану-царевичу.
Иван-царевич разрезал зайца, вдруг выпорхнула из зайца утка, закрякала, полетела, а за ней Ясный Сокол — птичий царь. Летит утка над синим морем, а над ней Ясный Сокол вьётся, изловчается, как бы лучше её сверху ударить. Вдруг сложил крылья, камнем на утку кинулся
и закогтил её. Только было захватил Ясный Сокол утку когтями, чтоб нести её Ивану-царевичу, вдруг уронила утка яйцо, упало оно в синее море и пошло, как ключ, ко дну.
А царь Змей то заприметил, вмиг обернулся щукой, рыбой зубастою, нырнул в море — и вынес яйцо Ивану-царевичу.
Едет Иван-царевич через Кощеево царство, яйцо в руке держит да нет-нет и сдавит… Оттого Кощея тяжкой болью схватывает.
— Ох, Марья Моревна, — говорит он, — что-то худо мне можется, так сердце и щемит. Прилягу-ка я: может быть, полегчает.
Марья Моревна у окна сидит, на белый свет глядит.
Вдруг закурилась вдали пыль — ближе-ближе, — вот и конский топот слышится. Подскакал добрый молодец, спрыгнул с коня, идёт прямо в дом. Замерло сердце у Марьи Моревны, а Кощей повернулся и спрашивает:
— Будто подъехал кто?
Не успел он этого и выговорить, отворилась дверь в горницу и вошёл Иван-царевич.
Страшно смотрит на него Кощей, так бы и разорвал его, да подняться силы нет; Иван-царевич сдавил, разломил яйцо — в скорлупе огонёк теплится, чуть-чуть вспыхивает.
— Знаешь, Бессмертный Кощей, что это? — спрашивает Иван-царевич.
— Твоё счастье, — сказал Кощей, — а моя смерть!
Тут дунул Иван-царевич на огонёк; огонёк вспыхнул
и погас, а с тем и Кощею конец пришёл.
Вернулся Иван-царевич с Марьей Моревной в своё отцовское царство, стал с ней жить-поживать припеваючи, родителей вспоминаючи. И теперь перед всеми царевич своей женой похваляется, — тем и сказка кончается.
КРЕМЕШОК
Жили-были старик со старухой, и было у них два сына и дочка. Сыновья были ладные парни, справные работники, а дочка даром что из простого звания — неописанной красоты. Вот раз говорит старик сыновьям:
— Не смотрите, детки, на то, что у нас теперь достаток есть, вперёд загадывайте. Снял я землю под пашню в чужом царстве за Чёрными лесами; поезжайте-ка, вспашите да засейте её.
— Дорога, батюшка, туда не близкая; как бы нам еды с собой запасти, чтобы, не кончивши дела, домой не ворочаться.
— Берите запасу на неделю, а потом сестра вам ещё хлеба принесёт.
— Как же я к новой пашне дорогу найду? — спрашивает сестра.
— А братья, как будут туда ехать, по дороге борозду сохой проложат, ты и дойдёшь, — говорит старик.
А в Чёрных лесах, в неведомых местах — куда и ворон человечьих костей не заносил — жил Змей Горыныч. Давно уж он до мужиковой дочери добирался и, узнавши, что девица одна через лес пойдёт, пустился на хитрости: перепахал борозду, что братья проложили, и привёл борозду прямо в свою берлогу.
Вот девица понесла братьям хлеб, всё шла бороздой, шла — да и попала прямо к Змею.
Братья тем временем на новой пашне работали, пока у них весь хлеб не вышел. А как нечего стало есть, воротились домой:
— Что ж ты, батюшка, еды нам не прислал?
Отец говорит:
— Вам сестра уж три дня как понесла.
— Значит, заблудилась она, — говорят братья. — Пойдём её искать.
И пошли бороздою.
По борозде всё да по борозде — и привела она их к Змееву дому. Видят — на дворе, у колодца, сестра их воду берёт.
— Братцы, — говорит она, — зачем вы сюда зашли? Меня, несчастную, вам всё равно не выручить, а свои головы здесь наверно сложите.
И рассказала им, как Змей её к себе заманил.
— Ну, — говорит, — теперь уж делать нечего. Подождите здесь, а я пойду, может, умолю Змея, чтоб он вас живыми выпустил.
Вошла сестра к Змею и спрашивает:
— Что б ты сделал, если бы ко мне братья мои пожаловали?
— За гостей бы принял, — отвечает Змей.
Вышла сестра на крыльцо и позвала братьев в дом. Змей их будто и добром встречает, за стол сажает. Кричит:
— Эй, жена! Подавай угощенье — двенадцать быков жареных, двенадцать бочек мёду стоялого да железных орехов на закуску!
Подали. Змей стал братьев неволить:
— Что же вы, зятья любезные, плохо кушаете? Или моим угощеньем брезгуете?
Братья съели по кусочку, выпили по стаканчику — больше не могут. А Змей съел всё двенадцать быков, выпил двенадцать бочек мёду, сгрыз все орехи железные и говорит братьям:
— Ну, пойдёмте на двор, я вам своё хозяйство покажу.
Привёл их на двор к железной колоде толщиной
в три обхвата:
— Ну-ка, зятьки, разрубите колоду.
Те отвечают:
— Где нам!
— А, так вы вот какие силачи ко мне за вашей сестрой явились! Только своим родством меня срамите!
Схватил их обоих, кинул в яму и завалил камнями в семь сажен вышиной, а сверху камнем в пятнадцать сажен привалил.
Горько заплакала сестра, узнавши, что с братьями случилось; стала Змею выговаривать:
— Зачем ты братьев моих погубил, моих стариков — отца с матерью — осиротил. Мало им ещё по мне горевать!
А Змей ей отвечает:
— Кабы и твои отец с матерью мне попались, я бы и их живыми не оставил, чтобы тебе не о ком думать было, кроме как обо мне.
А в это время отец с матерью сильно горевали об ней и о братьях. Плачет мать и горько тоскует, что остались они с мужем на старости без роду без племени… И приснился ей ночью сон, будто какой-то неведомый голос ей так провещает:
— Возьми ты, старуха, камешек-кремешок с дороги, заверни в хлопочки, окутай в платочки и положи в тёплое место — на печь. Будет тебе от того утешение.
Проснулась старуха и подумала: «Ан вдруг этот сон вещим окажется?»
И исполнила всё, как ей во сне снилось.
Лежит кремешок на печке день, другой, третий. Вдруг к вечеру третьего дня слышит старуха: что-то на печке шевелится и говорит тоненьким голоском:
— Раскутай меня, матушка, а то душно мне…
Развернула старуха платочки, раскутала хлопочки —
а в них, на месте кремешка мальчик лежит, да такой славный, здоровенький.
«Видно, он нам на наше сиротство послан», — подумали старик со старухой, назвали мальчика Кремешком и стали воспитывать как родного сына. Растёт Кремешок не по дням, а по часам, словно пшеничное тесто на опаре поднимается. Через год вырос такой большой да сильный, что и равного ему нет. На обед Кремешку котла каши да котла щей мало, зато работник — всем на удивленье. Послал его раз отец в лес дров нарубить, а он повырывал пол-леса сосен с корнями, взвалил себе на плечи и принёс к дому — весь выгон около деревни деревами завалил. А потом в полдня деревья порубил и дрова в сажени сложил. Вся деревня целую зиму те дрова жгла и четвёртой доли не сожгла.
Вот раз спрашивает Кремешок старика со старухою:
— Скажите мне, батюшка-матушка: что, я один у вас сын, больше у вас детей не было?
Отвечают они ему:
— Было у нас раньше тебя двое сыновей-молодцов и дочка-красавица, да пропали неведомо куда; должно быть, погубил их всех тот Змей, что в Чёрном лесу живёт.
— Коли померли они, — говорит Кремешок, — я с Богом спорить не могу, а коли живы ещё — найду их и обидчиков их не помилую.
— Ах, сынок, — говорят ему отец с матерью, — молод ты ещё, зла не видал, погибнешь ты понапрасну.
— Нет, — отвечает Кремешок, — не держите меня, батюшка с матушкой, не на то я на свет родился, чтоб крестьянствовать, а на то, чтобы по свету странствовать да зло изводить.
На другое утро принёс Кремешок отцу иголку.
— Вот, батюшка, нашёл я в Святом ключе эту иголку; отнеси ты её к кузнецу, пусть скуёт он мне из неё булаву сорокапудовую.
«Разве можно человеку, — думает старик, — сорокапудовой булавой ворочать, да и из иголки её не скуёшь».
Поехал в город, купил десять пудов железа и заказал кузнецу сделать из него палицу.
Взял Кремешок эту булаву десятипудовую, размахнулся и пустил её кверху за облака. А сам ушёл из дому на целый день. Вечером ворочается домой и говорит отцу:
— Выйди-ка, батюшка, наружу да послушай.
Вышел старик и слышит: вверху точно буря воет — и шумит и гудёт.
— Это моя булава назад идёт, — говорит Кремешок.
Подставил он ей мизинный палец, налетела сверху
булава десятипудовая, ударилась о палец — да словно щепка пополам и разломилась…
— Нет, батюшка, — говорит Кремешок, — эта больно тонка, сделай ты мне булаву из той иголки, что я тебе дал.
Опять отец ему не поверил: купил железа самого лучшего двадцать пудов и из того железа приказал сделать кузнецу булаву двадцатипудовую.
Привезли булаву; Кремешок взял её одной рукой, повернул вокруг головы и пустил вверх. А сам из дому ушёл на целый день. Ворочается вечером домой и говорит:
— Выйдем-ка, батюшка, наружу да послушаем.
Вышли.
— Слышишь, батюшка, там за облаками шумит? Это моя булава назад идёт.
Подставил Кремешок локоть — булава двадцатипудовая ударилась об него и согнулась дугой.
— Нет, — говорит Кремешок, — и эта слаба. Сделай же мне, батюшка, булаву сорокапудовую да непременно из той иголочки, что я тебе дал, — того железа лучше на свете нет: оно в святой воде закалено.
Нечего делать: понёс старик к кузнецу иголку. Стал кузнец ту иголку бить-ковать, в огне держать и выковал из неё булаву сорокапудовую, да ещё и железо осталось.
Кремешок той булавой размахнулся, пустил её вверх — завыла-заревела булава сорокапудовая и только к вечеру назад слетела. Подставил Кремешок под неё плечо богатырское — не погнулась булава, а сам богатырь по пояс в землю ушёл.
— Вот это, — говорит, — мне настоящее оружие, неизменное. Прощайте, батюшка с матушкой; пойду сестру и братьев выручать, коли живы.
Долго ли, коротко ли, отыскал Кремешок в Чёрном лесу берлогу Змея Горыныча. Смотрит: сестра его на дворе из колодца воду берёт.
— Здравствуй, сестрица! — говорит.
— У меня братьев нету.
— Нет, я брат твой, Кремешок; родился, когда уж тебя в доме не было.
Вошла сестра в дом и спрашивает Змея:
— Скажи мне, коли ты всё знаешь: есть у меня брат Кремешок? Какой-то молодец пришёл и братом моим называется.
Посмотрел Змей в свою волшебную книгу.
— Правда, — говорит, — есть у тебя брат, и коли он это, так мы с ним ещё силами померяемся. Зови его сюда.
Вышла сестра на двор, позвала Кремешка в горницы. Змей его, словно добрый, встречает, за стол сажает, щедро угощает.
— Ну-ка, жена! Подай зятьку двенадцать быков жареных, двенадцать бочек мёду стоялого да железных орехов на закуску.
Кремешок к столу сел, двенадцать быков съел, двенадцатью бочками мёду запил и железными орехами закусил — Змею и на зуб ничего не попало.
— Э, — говорит Змей, — да ты, зятёк, не из спесивых. Доволен ли моим угощеньем?
— Доволен ли, нет ли, а есть-то больше нечего.
— Ну, пойдём на двор, — говорит Змей, — я тебе своё хозяйство покажу.
Вышли они на двор.
— Зачем ты, молодец, ко мне пришёл? — спрашивает Змей. — Или себя не жалко? Ведь у тебя ещё материно молоко на губах не обсохло.
— Пришёл за сестрой, за братьями да за твоей, поганый Змей, головой, — отвечает Кремешок.
— Ну, куда тебе против меня! — говорит Змей. — Я дерево в три обхвата с корнем вырываю, пятнадцатисаженную железную колоду одним махом разрубаю.
Подошёл Кремешок к сосне в пятнадцать обхватов, легонько плечом коснулся — и вывернул с корнем; толкнул железную колоду пальцем — она в щепки рассыпалась.
— Хорошо, — говорит Змей, — эти задачи тебе по силам. Давай за руки подержимся; кто сильней сожмёт.
Взялись. Кремешкова рука только чуть побледнела, а Змеева рука со всеми пальцами у Кремешка осталась.
— Ну, зятёк, — говорит Змей, — видно, приходится нам насмерть биться, выдуй-ка нам для боя гладкое место.
— Нет, проклятый Змей, — говорит Кремешок, — теперь твой черёд.
Дунул Змей — сделался железный ток; Кремешок дунул — стал ток медный. Ударил Змей в первый раз — Кремешок только пятками в медь вдался; ударил Кремешок — вогнал Змея в железо по колена.
— Стой, — говорит Змей, — будем новые тока делать.
Дунул Змей — стал серебряный ток; дунул Кремешок — сделался ток золотой. Со вторых ударов Кремешок по колена в серебро вдался, а Змей по пояс в золото ушёл. Ещё раз запросился Змей:
— Погоди, богатырь, дунем ещё по току.
Дунул Змей — стал ток жемчужный; Кремешок дунул — стал алмазный ток. С третьего удара вогнал Змей Кремешка в жемчужный ток по пояс, а Кремешок Змея в алмазный ток по самую шею…
— Видно, зять, погиб я! — говорит Змей.
Отвечает ему Кремешок-богатырь:
— Не зять я тебе больше, а пришёл я сюда за твоею погибелью!
Ударил Змея ещё раз — и убил его, а напоследок вогнал его тело в алмазный ток, так чтобы и следа от Змея не осталось…
После откинул Кремешок тот камень в пятнадцать сажен высотой, которым братья его в яме были завалены, высвободил их и привёл их с сестрою к родителям. То-то было радости!..
Немного пробывши у отца с матерью, говорит им Кремешок-богатырь:
— Благословите меня, батюшка с матушкой, по святой Руси идти; не для того мне моя сила дана, чтоб крестьянствовать, а для подвигов богатырских, чтоб за обиженных стоять, веру христианскую оборонять.
И ушёл Кремешок-богатырь по святорусской земле странствовать и много подвигов совершил.
Говорят, прежде все такие-то богатыри рождались, — да нам об них только сказочки остались.
ИВАШЕЧКА И ВЕДЬМА
Жили-были старик со старухой, да худое было их житьё: век они прожили, а детей не нажили. Смолоду ещё ничего: жили, друг другу помогали; а как состарились — воды напиться подать некому… И тужили они, и плакали — а делать нечего.
Пошёл раз старик в лес за дровами, выбрал дерево, какое приглянулось, и только что замахнулся топором, как вдруг говорит ему дерево человеческим голосом:
— Подожди, добрый человек, не руби меня под корень, дай мне ещё на белом свете постоять, на ясном солнышке погреться. Я твоё горе знаю и в нём тебе помогу. Срежь ты с меня малую веточку, снеси домой, прикажи старухе её в чистые пелёнки укутать, новым свивальником обвить да в тёплую золу под печку положить; увидишь, что будет.
Послушался старик дерева, сделал всё по-сказанному. Сидят старик и старуха ночью в избе, ждут: что из веточки будет? Вдруг зашевелилось что-то под печкой, и голосок слышится:
— Батюшка, матушка, выньте меня отсюда!
Поглядела старуха под печку — а там мальчик лежит, в пелёночках завёрнут, да такой славный — настоящая ягодка.
Уж как сынку старики обрадовались, и сказать нельзя. Назвали его Ивашечкой и стали беречь-растить.
Растёт Ивашечка, подрастает, в разум приходит. Как стало ему семь годков, говорит он отцу:
— Сделай мне, батюшка, челночок да вёсельце; буду я по озеру плавать, вам рыбку ловить.
— Куда тебе, мал ты ещё, утонешь чего доброго!
— Нет, не утону, пусти.
Сделал ему старик челнок да вёсельце, старуха надела на сынка белую рубашечку с красным пояском, и пустили его по озеру плавать. Плывёт Ивашечка да приговаривает:
— Челночок-челночок, плыви от берега дальше! Челночок-челночок, плыви от берега дальше!
Челнок и поплыл — далеко-далёко.
Вскорости пришла старуха на берег и стала кликать Ивашечку:
— Ивашечка, мой сыночек, плыви-плыви к бережочку! Я, мать твоя, пришла, тебе гостинца принесла. Принесла тебе есть-пить, чистую рубашечку переменить!
Услыхал Ивашечка материн голос и стал приговаривать:
— Челночок-челночок, плыви к берегу ближе: это меня матушка зовёт!
Приплыл челнок к берегу, старуха Ивашечку накормила, напоила, чистую рубашечку с красным пояском на него надела и опять за рыбкой отпустила.
На другой день старик пришёл к берегу и зовёт сынка:
— Ивашечка, мой сыночек, плыви-плыви к бережочку! Я, отец твой, пришёл, тебе гостинца принёс. Принёс тебе есть-пить, чистую рубашечку переменить!
Услыхал Ивашечка отцов голос и стал приговаривать:
— Челночок-челночок, плыви к берегу ближе; это меня батюшка зовёт!
Челнок приплыл к бережку; старик забрал рыбу, что Ивашечка наловил, накормил-напоил сынка, переменил ему чистую рубашку и опять отпустил.
Услыхала ведьма, как старик и старуха сынка кликали, и задумала поймать Ивашечку, чтобы его съесть. Вот пришла она на берег и завыла страшным голосом:
— Ивашечка, мой сыночек! Плыви-плыви к бережочку! Я, мать твоя, пришла, тебе гостинца принесла!
А Ивашечка услыхал, что это ведьмин голос, а не материн, и говорит:
— Челночок-челночок, плыви от берега дальше! Челночок-челночок, плыви от берега дальше! То не мать, то ведьма меня кличет!
Челнок и поплыл — далеко-далёко.
Видит ведьма, что так Ивашечку не обманешь, побежала она к кузнецу.
— Кузнец-кузнец, — говорит, — скуй мне такой голосок, как у Ивашкиной матери; а не то я тебя съем!
Испугался кузнец, но нечего делать: сковал он ведьме такой голосок, как у Ивашечкиной матери. Ведьма прибежала к берегу, спряталась в кустах и давай кликать Ивашечку точь-в-точь таким голоском, как у его матери:
— Ивашечка, мой сыночек, плыви-плыви к бережочку! Я, мать твоя, пришла, тебе гостинца принесла. Принесла тебе есть-пить, чистую рубашечку переменить!
Поверил Ивашечка, приплыл к берегу — а ведьма выскочила, схватила его, сунула в мешок и помчала к себе домой.
Пришла ведьма домой и приказывает своей работнице Алёнке:
— Истопи печь да зажарь мне Ивашку хорошенько, да чтоб к вечеру было готово!
Истопила Алёнка печь жарко-жарко, взяла лопату, на которой хлебы в печь сажают, и говорит Ивашечке:
— Ну ложись на лопату!
Лёг Ивашечка поперёк лопаты — нельзя Алёнке его в печь сунуть.
— Да не так, глупый: ты вдоль ляг!
Ивашечка лёг вдоль да ногами в устье печки упёрся — опять нельзя Алёнке его всунуть.
— Эх, опять не так!
— Да я мал ещё, не знаю, как тебе нужно, — говорит Ивашечка. — Ты сама мне покажи.
— Отчего же, показать недолго!
Легла Алёнка вдоль лопаты, ноги вытянула, руки сложила; а Ивашечка — шмыг её в печь, заслонкой закрыл, лопатой заслонку припёр. Сам вышел
из ведьминого дома, запер двери, залез на высокое-высокое дерево, на самую верхушку, и сидит.
Воротилась ведьма домой, стучится — никто ей не отворяет.
— Ишь, — говорит, — ушла, лентяйка, из дому!
Влезла ведьма в окошко, отворила изнутри дверь, накрыла стол, вынула жареную Алёнку из печи — и давай есть. Ела-ела — всю Алёнку съела; потом вышла на лужок и стала на травке валяться да приговаривать:
— Покатаюся-поваляюся, Ивашкиного мясца поевши!
А Ивашечка ей с дерева:
— Покатайся-поваляйся, Алёнкиного мясца поевши!
— Что это, будто меня кто переговаривает? — говорит ведьма.
Поглядела туда-сюда — нет никого. Опять давай валяться по травке:
— Покатаюся-поваляюся, Ивашкиного мясца поевши!
А Ивашечка с дерева опять ей:
— Покатайся-поваляйся, Алёнкиного мясца поевши!
Перестала ведьма кататься, прислушалась, посмотрела
туда-сюда. Глядь, а на дереве Ивашечка сидит. Так и взвыла она со злости, заскрипела зубами и бросилась грызть дерево, на котором Ивашечка сидел. Грызла-грызла — да передние зубы выломала. Побежала ведьма к кузнецу:
— Кузнец-кузнец! Скуй мне железные зубы, а не то я тебя съем!
Что кузнецу сделать? Сковал он ей железные зубы. Прибежала ведьма к дереву, впилась в него железными зубами: зашаталось, затрещало дерево.
Сидит Ивашечка ни жив ни мёртв, вдруг видит: летит стадо гусей. Взмолился он, стал их упрашивать:
— Гуси мои, лебёдушки! Возьмите меня на крылышки! Отнесите к отцу, к матери: там вас накормят-напоят!
— Ка-га! — говорят гуси. — Пусть тебя другие возьмут!
А ведьма грызёт — только щепки летят, дерево трещит, шатается. Летит другое стадо гусей.
— Гуси мои, лебёдушки! — молит их Ивашечка. — Возьмите меня на крылышки! Отнесите к отцу, к матери: там вас накормят-напоят!
— Ка-га! — говорят гуси. — Пусть тебя отсталый гусёнок возьмёт!
Не летит отсталый гусёнок, а дерево совсем уж перегрызено, вот-вот повалится. Остановилась ведьма отдохнуть, глядит на Ивашечку, облизывается. Вдруг летит отсталый гусёнок, чуть крылышками машет. Взмолился к нему Ивашечка:
— Ой ты, гусёк-лебедь мой! Возьми меня на крылышки, отнеси к отцу, к матери: там тебя досыта накормят, холодной водицей напоят!
Пожалел гусёнок Ивашечку, подхватил его на крылья и полетел с ним вместе.
Прилетел гусёнок к Ивашечкину дому и опустился на крышу. А старуха в то время блинов напекла; сидят они со стариком, сынка Ивашечку поминают.
— Это тебе, старик, блин, а это мне! Это — тебе, а это — мне; это — тебе, а это — мне, — говорит старуха.
— А мне? — говорит Ивашечка.
— Посмотри-ка, старик: что это там на крыше отзывается?
Вышел старик, глядь: а на крыше Ивашечка сидит, живой, здоровый. Обрадовались ему отец с матерью так, что и рассказать нельзя.
И стали они жить-поживать, добра наживать. А отсталого гусёнка отпоили, откормили, на волю пустили. С той поры начал он широко крыльями махать, впереди стаи летать. И теперь живёт-поживает, Ивашечку добрым словом вспоминает.
СИВКО-БИРКО, ВЕЩИМ КАУРКО
Куда как дивен божий свет! Живут в нём счастливые — и празднуют, живут горемычные — и трудятся, живут богатые — через золото слёзы льют, живут бедные — и радуются… Каждому своя доля.
В царских палатах, в золотых чертогах жила Мило-лика-царевна. Какое ей было житьё, какое приволье! Всего много, ни в чём отказа нет, а она всем недовольна, от всего отворачивается.
Какие за Милолику-царевну только женихи сватались! И цари и царевичи, и короли и королевичи, и князья, и бояре, и дворяне, и сильно могучие богатыри — всем отказ, от ворот поворот. Уж и царь-отец стал на её гордыню обижаться.
— Каких тебе ещё женихов надо? — спрашивает.
— Прикажи, государь-батюшка, поставить против дворца высокий терем в двадцать сажен до моего окошечка; в том окошечке я сяду, и кто на коне с разлёту снимет у меня с руки моё заветное колечко — за того молодца я и замуж выйду.
— Хорошо, дочь моя любезная, будь по-твоему; только смотри, от слов своих потом не отказывайся!..
А в том царстве жил тогда старый старик, и было у него три сына. Старшие — молодцы, рослые, дородные; а младший, Ваня, — поплоше, так, недоросточек, словно ощипанный утёночек. Вот как пришло время помирать старику, говорит он сыновьям:
— Сыновья мои любезные, как помру я, приходите вы поочерёдно на мою могилу по одной ночи переночевать.
— Хорошо, батюшка.
Только умер отец, как пришла от царя весть, что Милолика-царевна за того богатыря замуж выйдет, кто снимет у неё с руки заветное колечко, перескочивши на коне с разлёту через двадцать сажен… Всполошился весь молодой народ: раздумывает, кому такая честь будет. А братья об отцовском завете и думать забыли: коней объезжают, кудри завивают…
— Кто ж на отцовскую могилу ночевать нынче пойдёт? — спрашивает их Ваня.
— А кого охота берёт, тот пусть и идёт! Нам не до того, надо добиться своего, — отвечают братья.
Сами заломили шапки, вскочили на коней, гикнули, свистнули, полетели-понеслись, загуляли в чистом поле…
Пошёл Ваня на отцовскую могилку. В самую полночь раскрылась могила, встал из неё отец, стряхнул с чела сыру землю и спрашивает:
— Кто на моей могиле? Ты, старший сынок?
— Нет, батюшка, это я, младший сын, Ваня.
— Сиди, моё дитятко, господь с тобою!
И закрылась опять тёмная могила. Перебыл Ваня ночь, утром пришёл домой и говорит братьям:
— Выходил ко мне сегодня ночью батюшка из могилы и благословил меня. Теперь ваша очередь идти; кто пойдёт?
А братья ему:
— Кто охоч, тот и ступай, а нам не мешай.
Опять пошёл Ваня на отцовскую могилку. В полночь раскрылась могила, встал из неё старик отец, стряхнул с чела сыру землю и спрашивает:
— Кто здесь? Ты, средний сынок?
— Нет, батюшка, опять я, Ваня.
— Ну, благослови тебя бог, дитятко!
И закрылась тёмная могила.
На третью ночь пошёл Ваня на могилку. В полночь раскрылась могила, встал-поднялся из неё отец:
— Опять ты здесь, Ванюшка?
— Я, батюшка.
— Благослови тебя бог, дитятко, за то, что отцовского завета слушаешься, а я тебя награжу.
Вытянулся старик, выпрямился, свистнул молодецким посвистом, крикнул богатырским покриком:
— Сивко-Бурко, вещий Каурко! Стань передо мной, как лист перед травой!..
Конь бежит, земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей дым столбом валит. Огладил, приласкал его старик:
— Прощай, слуга мой верный! Служи этому моему сынку, как мне служил.
И скрылся отец в могиле на вечные веки.
Отпустил Ваня коня гулять в зелёные луга, а сам домой пошёл. Дома братья к царю на испытанье собираются: усы закрутили, шапки заломили, бодрятся, охорашиваются.
— Ну, поедем мы Милолику-царевну добывать, а ты, Ванюшка, дома сиди, по хозяйству гляди. Куда уж тебе, убогому, с нами!
Как уехали братья, Ваня вышел за околицу и крикнул громким голосом:
— Сивко-Бурко, вещий Каурко! Стань передо мной, как лист перед травой!
Примчался конь и стал перед ним, словно вкопанный. Ваня в правое ушко ему влез, из левого вылез, наелся, напился, в богатое платье нарядился, стал таким
молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Вскочил на коня, рукой махнул, ногой толкнул и понёсся: земля дрожит, конь бежит, высоки горы хвостом застилает, глубоки долы под собой пропускает.
Кипит народ у царских ворот: едут со всех сторон и царевичи, и королевичи, и князья, и бояре, и дворяне. Все свою удаль пробуют: борзых коней разгоняют, через двадцать сажен прыгать заставляют. Только куда! Выше третьей сажени никто не достал. Вдруг, словно ясный сокол прилетел в воронью стаю, примчался неведомый молодец, размахнулся, скакнул, только двух сажен не достал. Повернул коня — и был таков: видали,
откуда приехал, да не видали, куда уехал…
Братья домой вернулись, Ване рассказывают:
— Ну, видели мы чудо, видели диво: об таком молодце и не слыхано, этакой красоты и не видано, словно вот солнцем всё поле осветило, как он показался… Коли этот молодец и завтра выедет — достанет он Милолику-царевну!..
А Ваня только усмехается.
На другое утро, лишь братья уехали, вышел Ваня в чистое поле, свистнул, крикнул:
— Сивко-Бурко, вещий Каурко! Стань передо мной, как лист перед травой!
Примчался конь и стал перед ним, словно вкопанный. Ваня в одно ушко ему влез, из другого вылез — стал красавцем-молодцом и помчался к царскому терему. Подскакавши, ^ разогнал коня — полетел конь, словно птица, чуть-чуть не достал Ваня Мило-лики-царевны. Весь народ так и ахнул.
— Держи, лови, — кричат, — молодца неведомого, красавца писаного, богатыря могучего!
А он повернул коня и улетел, словно из лука стрела… На третий день позвал Ваня своего коня из чиста поля, стал перед ним конь, словно вкопанный. Клал Ваня на коня седельце золотое, черкасское, со стремёнами булатными, подтянул двенадцать подпруг шёлковых, не для красы, ради крепости: шёлк не рвётся, булат не трётся, аравитское золото не ржавеет…
Он бил коня по крутым бёдрам; под ним конь возъя-ряется, прочь от земли подымается, несёт седока выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего. Подскакал Ваня к высокому терему, все двадцать сажен перелетел и умчался, у народа с глаз пропал. Только-только успел на лету у царевны заветное колечко выхватить да себе на палец надеть.
Приехал Ваня домой, сидит, братьев дожидается, будто нигде и не был. Вернулись братья, рассказывают:
— Нынче тот самый молодец перескочил все двадцать сажен и кольцо у царевны выхватил. Приказал царь, чтоб из всего царства весь молодой народ к нему завтра на пир собирался: хочет молодца узнать по тому, что, если он царевнино кольцо надел, так уж снять его с пальца нельзя.
— Стало быть, братцы, — говорит Ваня, — и мне ехать надо?
— Ну, ты хоть и не езди, чего тебе там делать, убогому!
— Нет, уж если царь приказывает, и я на пир пойду.
На другой день опять кипит народ у царских ворот.
Собралось молодцов — и глазом не окинешь. Приехали старшие, пришёл и Ваня пешочком, тихо, смирно, словно никогда он царя с царевной и не видывал. Начались пиры, полились мёды… Сам царь с царевною гостей обходит. Всякого гостя царевна из своих рук угощает, всякому чару наливает: не окажется ли у кого на руке её заветного колечка? Все столы обошли, между боярами, между генералами перебрали — ни на ком того колечка не приметили. Ваня сидит в уголке, улыбается, а царевна к нему подойти не догадается. Наконец повернулась и к нему к последнему подошла. Взял Ваня чарку в правую руку, так и осветились все палаты от царевниного колечка.
Нечего делать; нельзя царевне от своего слова отказаться, вышла она замуж за Ваню. Тогда и старшие его братья узнали, что значит отцовского завета слушаться.
Были у царя, кроме царевны Милолики, ещё две старшие дочери, обе уж замужние. Старшая — за королевичем, средняя — за княжевичем. Вот раз призывает к себе царь своих старших зятьёв и говорит:
— Зятья мои милые, зятья любезные! Донесли мне, будто есть на краю моей земли озеро, а на том озере плавает уточка — золотые пёрышки с двенадцатью золотыми утятами. Сослужите мне службу: добудьте ту уточку. Надо мной соседние короли потешаются, что я в своём царстве такого чуда не ведаю. Коли добудете, я вам при жизни полцарства отдам.
Оседлали старшие зятья своих добрых коней и поехали добывать для тестя уточку — золотые пёрышки.
Вскорости говорит Ваня, младший царский зять, своей жене:
— Любезная супруга, Милолика-царевна! Пойди попроси у твоего батюшки мне коня: поеду и я добывать уточку — золотые пёрышки.
Пошла Милолика-царевна, попросила, а царь ей отвечает:
— Ну, куда твоему мужу ехать! Коли старшие зятья утки не добудут, ему и подавно её не достать. Ну а коли хочет, пусть едет; дам ему старую водовозку, для такого богатыря и кляча сойдёт.
Сел Ваня верхом на хромую водовозку, выехал в поле и крикнул:
— Эй, слуга мой верный, Сивко-Бурко, вещий Каурко! Стань передо мной, как лист перед травой!..
И стал перед Ваней конь, словно вкопанный. Ваня в одно ушко ему влез, из другого вылез, стал молодцем-красавцем и говорит своему коню: — Слушай, верный мой слуга: надо мне достать уточку — золотые пёрышки с двенадцатью золотыми утятами. Помоги!
Отвечает ему вещий Каурко человеческим голосом:
— Садись на меня, хозяин; поедем добывать то, что тебе надобно.
И помчался Сивко-Бурко, вещий Каурко; полетел выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего; высоки горы хвостом застилает, глубоки долы под собой пропускает… Долго ли, коротко ли — привёз седока к широкому озеру и говорит:
— Сплети, хозяин, из моей гривы сеть; в ту сеть только и можно поймать уточку — золотые пёрышки.
Сделал Ваня всё, как конь ему велел, и добыл Ваня утку — золотые пёрышки с двенадцатью утятами да поехал домой. По дороге в чистом поле раскинул он шатёр; сам в шатре сидит, возле уточка на привязи ходит. А старшие царёвы зятья ездили-ездили, уточки не нашли, стали уж домой ворочаться, да и наехали на шатёр. Остановились они и спрашивают:
— Кто в шатре, кто в шёлковом? Коли стар старичок — будь нам дедушка, коли средних лет — будь нам дядюшка!
Отвечает Ваня:
— В вашу пору — братец вам.
— Не продашь ли, братец, уточку с утятами?
— Не продажная уточка, заветная…
— А каков завет?
— Отрежьте по пальцу с ноги, тогда даром отдам.
Зятья, чтоб тестю прислужиться, отрезали себе по
мизинцу с ноги и отдали их Ване за уточку.
Зятья домой воротилися, перед тестем стали похваляться:
— Ездили мы за уткой на самый край света, за болота зыбучие, за горы толкучие. Семиглавого змея победили, с бою у него утку отбили…
А Ваня пришёл себе пешочком, сел в уголочек, тихо, смирно, точно он и знать ничего не знает.
Недолго спустя призывает к себе царь старших зятьёв и говорит:
— Зятья мои любезные, храбрые витязи! Прослышал я, будто в моём царстве есть где-то в дремучих лесах свинка — золотая щетинка с двенадцатью поросятами. Добудьте — отдам вам при жизни полцарства.
Сели зятья на своих добрых коней и поехали куда глаза глядят. И Ваня тоже задумал ехать, свинку добывать: послал жену к царю, чтоб выпросила она ему лошадь.
Говорит царь дочери:
— И чего твой заморыш за людьми тянется — только лошадей у меня изводит!.. Ну, да ладно уж: пусть возьмёт со двора другую водовозку, жальче первой.
Ваня на водовозку взмостился, прутиком её погоняет; кляча брыкает, хвостом вертит, а с места не идёт — всему народу на потеху. Только Милолике-царевне не до смеху: увидавши в окно своего мужа, спряталась царевна в тёмный чулан и проплакала весь день от стыда.
А Ваня выбрался кое-как на своей кляче в чистое поле, слез с неё и крикнул громким голосом:
— Сивко-Бурко, вещий Каурко! Стань передо мной, как лист перед травой!..
Откуда ни возьмись примчался конь; Ваня сел на него и поехал добывать свинку — золотую щетинку с двенадцатью золотыми поросятами.
Старшие зятья, попусту проездивши, домой ворочаются. 1/1 видят: на зелёном лугу палатка раскинута,
а около неё ходит свинка — золотая щетинка с двенадцатью поросятами.
— Что ни дать, а надо купить! — говорят зятья друг другу. — Продашь, молодец, свинку с поросятами?
— Не продажные они, а заветные.
— А каков завет?
— По мизинцу с руки…
«Что ж, — подумали зятья, — полцарства дороже мизинца стоит».
Отрезали себе мизинцы, отдали их Ване, а от него взяли свинку с поросятами.
Ваня мизинцы спрятал и пошёл домой пешочком, смирно, потихоньку, точно и знать ничего не знает. А в царском дворце зятья величаются, похваляются, тестю рассказывают: как они весь свет объездили, трёх басурманских королей победили, двух семиглавых змеев убили, а свинку — золотую щетинку с двенадцатью поросятами добыли.
Царь-тесть их похвалил, наградил; а на Ваню и взглянуть не захотел…
Вскоре после того опять зовёт царь своих старших зятьёв и говорит им:
— Зятья мои милые, зятья мои любимые, храбрые витязи! Сослужите мне последнюю службу: прослышал я, будто пасётся на
моих лугах златогривая кобылица — что шерстинка, то серебринка, — с двенадцатью жеребятами. Добудьте мне её: я вам при жизни полцарства отдам.
Сели зятья на своих борзых коней и поехали разыскивать не кобылицу золотогривую, а того молодца, что променял им уточку — золотые пёрышки и свинку — золотую щетинку.
«Нет ли у него, — думают, — и кобылицы золотогривой…»
Стал и Ваня посылать свою жену к тестю себе за лошадью. Милолика-царевна отказывается:
— Нечего тебе, Ваня, и ездить: только народ смешишь, меня стыдишь, а толку нет.
Отвечает Ваня Милолике-царевне:
— Не надо мной народ смеётся, а над теми водовозками, что мне тестюшка жаловал. Не стыдись за меня, — погоди до времени: будешь мной хвалиться. Иди-ка к батюшке.
Рассердился царь, когда Милолика-царевна стала просить у него коня, чтоб мужу её ехать за кобылицей златогривою; прогнал дочь с глаз долой:
— И слышать об муже твоём не хочу: только срамит он меня!
Пошёл Ваня пешком в чистое поле, свистнул молодецким посвистом, крикнул громким голосом:
— Эй, мой Сивко-Бурко, вещий Каурко! Стань передо мной, как лист перед травой!
Конь бежит — земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей дым столбом валит… Примчался и остановился перед Ваней, словно вкопанный. Ваня в одно ушко ему влез, из другого вылез — стал таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером написать… И говорит Ваня своему коню:
— Хочет царь-тесть добыть кобылицу златогривую — что шерстинка, то серебринка, — с двенадцатью жеребятами. Помоги мне её достать, слуга мой верный.
Отвечает ему вещий конь человеческим голосом:
— Сослужил я тебе, хозяин, две службы — те службы были ребячьи, а вот эта задача настоящая… Повезу я тебя в зелёные луга, где пасётся та страшная кобылица; только наперёд заготовь ты три прута железных, три медных да три оловянных. Кинется за мной кобылица, чтоб меня ногами растоптать, зубами разорвать, и будет гнать за нами три дня, три ночи. Как станет она меня догонять, тут ты и меня и себя от злой смерти выручай: оборачивайся живо да бей её зараз всеми прутьями
промежду ушей. Хорошо ударишь — она на колени падёт; а ты смотри, не давай ей опамятоваться: вскочи на неё верхом и держись крепко-накрепко. Станет тебя кобылица носить по долам, по горам, по бездонным пропастям, ты не плошай: держись крепче да бей её промежду ушей без отдыха; сломаешь прутья железные — бери медные; изорвёшь медные — бери оловянные… Может, и удастся тогда тебе покорить золотогривую кобылицу.
Клал Ваня на своего коня седельце черкасское со стре-мёнами булатными, подтянул двенадцать подпруг шёлковых пряжками красного золота — не для красы, ради крепости: шемаханский шёлк не рвётся, крепкий булат не трётся, аравитское золото не ржавеет… Садился Ваня на добра коня; под ним горячий конь возъяряется, прочь от земли поднимается, несёт седока выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего…
Долго ли, коротко ли — едут старшие зятья домой, не разыскавши кобылицы. Глядь: под самым царским стольным городом, на зелёном лугу, раскинута палатка; а около той палатки пасётся кобылица златогривая — что шерстинка, то серебринка, — с двенадцатью жеребятами. Подъехали зятья к палатке и спрашивают:
— Кто в шатре, кто в шёлковом? Отзовись! Коли стар старичок — будь нам дедушка; коли средних лет — будь нам дядюшка!
Отзывается Ваня:
— В вашу пору — братец вам.
— Не продашь ли, братец, кобылицу с жеребятами?
— Не продажная она, братцы, а заветная.
— А каков завет?
— По левому уху отрезать да мне отдать…
Жались-жались царские зятья.
«Ну, ничего, — думают, — полцарства дороже стоит!»
Отрезали себе по левому уху, отдали их Ване, а себе забрали кобылицу с жеребятами.
В царском дворце идёт пир на весь мир. Царь своих старших зятьёв угощает, собирается их полцарством наградить за то, что добыли они ему кобылицу златогривую — что шерстинка, то серебринка, — с двенадца-
тью жеребятами, всю землю за ней проехавши, трёх девятиглавых змеев победивши… Вдруг растворились двери белокаменных палат, и вошёл Ваня, младший царский зять. Клал Ваня поклон на все четыре стороны — царю-тестю в особицу, — говорил Ваня таковы слова:
— Государь мой тесть-батюшка. Чествуешь ты твоих старших зятьёв, а меня-то ничем не пожалуешь!
— За что тебя, заморыша, жаловать? — говорит царь. — Неужели за то, что ты у меня двух лошадей извёл да меня перед народом срамил?
Отвечает Ваня, младший царский зять:
— Я добыл и уточку — золотые пёрышки, и свинку — золотую щетинку, и кобылицу златогривую, а старшие твои зятья только их у меня купили.
Вынул Ваня из кармана два пальца с ног, два мизинца с рук да два уха.
— Вот, — говорит, — пальцы с ног — за уточку — золотые пёрышки, вот мизинцы с рук — за свинку — золотую щетинку; вот уши — за кобылицу златогривую. Прикажи, государь, старшим зятьям показаться.
Глянул царь — не хватает у его старших зятьёв по пальцу на ноге, по мизинцу на руке и по левому уху…
Только приставил их Ваня на места — они и приросли, точно отрезаны не были.
Нечего делать: пришлось старшим зятьям признаться, что ни султанов они не победили, ни змеев не поубивали, а что так дело было, как Ваня сказывает.
Повёл тогда Ваня царя-тестя с дочерьми и с зятьями в чистое поле. Свистнул-крикнул громким голосом:
— Сивко-Бурко, вещий Каурко! Стань передо мной, как лист перед травой!
Конь бежит — земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей дым столбом валит — и остановился перед хозяином, словно вкопанный…
Ваня коню в одно ушко влез, из другого вылез — и стал таким молодцем-красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Признали сразу все в нём того витязя, что через двадцать сажен достал от Милолики-царевны её перстень. Взяла мужа царевна за белые руки, поцеловала в уста сахарные и говорит:
— Ты скажи, поведай мне, богоданный муж, почему ты нам сразу в своём настоящем виде не показался; зачем скрывал своё молодечество?
Отвечал жене Ваня:
— А затем, Милолика-царевна, что была ты больно горда да разборчива, пока за меня замуж поневоле не вышла; затем, чтобы ты через меня, твоего мужа, смиренью научилася.
С того времени стал Ваня жить со своей женой по-царски: ездил в карете да пиры задавал. На тех пирах и я бывал, мёд-вино пивал; сколько ни пил — только усы намочил.
МОРОЗКО
Жил-был старик со старухой, и было у них три дочери. Да только старшая-то дочь, Марфуша, доводилась старухе падчерицей. А падчерице при мачехе что за житьё? С утра до вечера старуха её поедом ест:
— Экая ленивица, экая неряха! И веник-то не у места, и ухват не так поставлен, и в избе-то сор!
А Марфуша всем взяла: работница, скромница, собой пригожая; до свету поднимется, дров, воды принесёт, печку истопит, пол подметёт, скотине корму задаст. Всё старалась Марфуша угодить мачехе, все попрёки молча сносила; только, бывало, и отведёт душу, что сядет в уголок да поплачет. Глядя на мать, и сестры частенько её до слёз обижали. Сами они поздно просыпались, долго умывались, чистым полотенцем утирались, а за работу садились — когда пообедают. Жалко было старику старшей дочери, да не знал он, чем горю пособить, такую уж власть жена над ним взяла.
Дочери растут да растут — вот уж и невестами стали. Начали старики между собой думу думать: как бы
получше их пристроить. Отец всем трём добра желает, а мать только об двух своих думает. И надумала она про падчерицу думу худую. Раз говорит она мужу:
— Ну, старик! Марфутку замуж пора выдавать, а то пока ждём-прождём, мои дочки хороших женихов упустят. Всё же вперёд старшую надо с рук сбывать.
— Ладно, — говорит старик.
А старуха не унимается:
— Я ей и жениха надумала. Завтра встань пораньше, запряги лошадь в дровни и поезжай с Марфуткой, куда укажу. А ты, Марфутка, собери своё добро в коробейку да оденься получше: поедешь с отцом в гости.
Поутру Марфуша встала ранёхонько, умылась белёхонько, богу помолилась, отцу-матери поклонилась, собрала своё добро в коробейку и сама нарядилась — невеста хоть куда. Старик запряг лошадь в дровни, подвёл к крыльцу и говорит:
— Ну, я всё изладил. А ты, Марфуша, готова?
— Готова, батюшка.
— А коли готовы, так закусите на дорогу чем бог послал, — говорит мачеха.
Дивится старик: «С чего это моя старуха вдруг раздобрилась?»
Покормила мачеха старика с падчерицей и говорит:
— Просватала я Марфушу за лесного дедку Мороза — жених богатый, чего ей ещё надо. Правда, хоть не молод, ну, да ничего: стерпится — слюбится.
Старик и ложку выронил, глаза вытаращил, смотрит на жену.
— Опомнись, старуха! — говорит. — В уме ли ты?
— Ладно, разговаривай ещё! Жених богатый. У него все ёлки, сосны да берёзы в серебре стоят. И дорога к нему не бог знает какая дальняя: сперва прямо поезжай, потом направо, в тёмный лес заверни, а там, как десять вёрст проедешь, под высокой сосной Марфутку и ссади. Да место заприметь хорошенько — завтра молодую навестить тебя же пошлю. Ну, живей, нечего время терять!..
А на дворе меж тем зима стояла лютая, снега лежали глубокие, птица на лету мёрзла.
Встал старик с лавки, положил дочернины пожитки на дровни, велел ей надеть шубку — и поехали. Доехали до лесу, въехали в глушь непроходимую и под высокой сосной остановились.
— Слезай, дочушка, — говорит старик.
Слезла Марфуша. Старик снял с дровней коробейку, поставил под сосной, посадил дочку свою и сказал:
— Ну, сиди, жди жениха да принимай ласковее…
Простился с дочерью и поехал домой.
Сидит Марфуша под высокой сосной на коробейке, сидит, пригорюнилась. Стало её холодом-ознобом пробирать… Вдруг слышит: Морозко по лесу пощёлкивает,
потрескивает, с ёлки на ёлку перескакивает. Вот уж он и на высокой сосне.
— Тепло ль тебе, девица? Тепло ль тебе, красная? — спрашивает.
— Тепло, дедушка, тепло, Морозушко, — говорит Марфуша, а у самой зуб на зуб не попадает.
Стал Морозко ниже спускаться, сильнее потрескивать, звонче пощёлкивать и опять спрашивает:
— Тепло ль тебе, девица? Тепло ль тебе, красная?
— Ой, тепло, дедушка! — А сама чуть дух переводит.
Спустился Морозко до самой земли:
— Тепло ль тебе, девица? Тепло ль тебе, красная?
А Марфуша уж бледнеть стала. Тут сжалился Мороз, покрыл её шубами, отогрел одеялами, обласкал, подарил ей сундук с нарядами, шубу, атласом крытую, серебра-золота и камней самоцветных.
— Разжалобила, — говорит, — ты меня, красная девица, разжалобила своей кротостью да безответностью.
Наутро старуха поднялась раным-рано, стала блины печь, чтоб было чем падчерицу помянуть.
— Ну, поезжай, — говорит мужу, — поздравь молодых-то.
Запряг старик лошадь и поехал. Доехал до высокой сосны — и глазам своим не верит: сидит Марфуша на коробейке весёлая-превесёлая, на ней шуба новая, в ушах серьги драгоценные, рядом ларец, серебром окованный. Сложил старик всё добро на воз, сел с дочерью — и скорей домой.
Дома старуха блины печёт, а Шавка из-под лавки тявкает:
— Тяв, тяв! Марфуша едет, воз добра везёт.
Рассердилась старуха, швырнула в Шавку поленом:
— Врёшь, подлая! Старик в кошёлке Марфуткины косточки везёт!
Вот и дровни подъехали. Вышла старуха на крыльцо — да так и остолбенела: сидит на дровнях Марфуша жива-невредима,
разряжена лучше праздничного, а рядом ларец с подарками от дедки Мороза. Затаила мачеха злобу до времени, ласково с падчерицей поздоровалась, в избу ввела, под образами с почётом посадила.
Зависть взяла двух старухиных дочерей, как увидали они богатые Морозкины подарки. Стали они у матери просить:
— Свези нас в лес, к Морозке в гости: он и нас подарками одарит. Чем мы хуже Марфутки?
Вот рано поутру старуха дочек своих накормила, убрала, снарядила и в путь-дорогу отпустила. Старик свёз их на то место, куда Марфушу возил, и оставил под высокой сосной. Сели девицы рядышком и стали ждать, про великие богатства Морозкины судить-рядить.
— Что это Морозко-то запропастился? — говорит одна. — Ведь так мы замёрзнем.
— Что ты с ним станешь делать? — говорит другая. — Разве эти женихи рано собираются? А ты как думаешь, кто из нас ему приглянется?
— Да уж я тебя старше — меня он в жёны и возьмёт.
— Ан врёшь!
— А ты дура!
Слово за слово, и перебранились, стали друг дружку отчитывать: «Ты такая, а ты этакая». Бранились, бранились, вдруг слышат: Морозко по лесу потрескивает,
пощёлкивает, с ёлки на ёлку перескакивает. Примолкли девушки. Вот Мороз уж и на высокой сосне.
— Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные? — спрашивает.
— Ой, дедка, больно студёно! Чуть не замёрзли мы, тебя поджидаючи. Где это тебя до сей поры носило?
Стал Морозко ниже спускаться, сильнее потрескивать, звонче пощёлкивать и опять спрашивает:
— Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?
— Да ну тебя, старого дурака! Заморозил вовсе, да ещё спрашивает: тепло ли! Полно шутки шутить. Давай подарки, а то плюнем и уйдём вовсе.
Спустился Мороз до самой земли и опять спрашивает:
— Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?
Рассердились вовсе мачехины дочки, не хотят и отвечать ему. Обозлился и Морозко да так приударил, что девицы как сидели, так и закоченели… А он их холодным инеем присыпал — и пошёл себе по лесу с ёлки на ёлку перескакивать, с ветки на ветку допрыгивать, потрескивать да пощёлкивать.
Наутро старуха говорит старику:
— Запряги, старик, лошадку, положи сена побольше да возьми тёплое одеяльце. Дочки-то, чай, продрогли: ишь какой мороз на дворе! Да проворней поворачивайся!
Старик живо собрался и поехал.
Приехал в лес, да так руками и всплеснул: обе дочки мёртвые, снегом припорошены, сидят! Нечего делать, поднял их, положил в сани и повёз домой.
Дома старуха хлопочет, обед готовит, чтобы получше дочек угостить, а Шавка из-под лавки:
— Тяв, тяв! Старик едет, дочерей косточки везёт.
Рассердилась старуха, швырнула в Шавку поленом:
— Врёшь, подлая! Старик с дочками едет, воз добра везёт!
Вот и сани подъехали. Вышла старуха на крыльцо — да так и остолбенела: лежат обе дочки мёртвые.
— Что ты наделал, старый хрыч? Уходил ты моих деточек, дочек моих милых, ненаглядных. Вот я ж тебя кочергой попотчую!
— Что делать, старуха? — говорит старик. — Все мы тут виноваты: они — что на богатство польстились, ты — что их не остерегла, а мой грех — что раньше я тебя мало учил; под старость поздно уж приниматься.
Поплакала старуха, посердилась, побранилась — да после с мужем и помирилась. С тех пор она и к падчерице добрее стала, а когда к Марфуше жених-молодец присватался, старуха на её свадьбе со стариком ещё камаринскую плясала.
ЦАРЬ-ДЕВИЦА
Светел месяц на небе зародился, а на земле у Белого царя сынок Иван-царевич родился. Царю и счастье и горе: радуется царь наследнику
и тяжко горюет, потому что, родив сынка, умерла царица, оставила царя вдовцом, а сынка — сиротою.
Делать нечего: плачь не плачь — слезами горю не поможешь. Приставил царь к сынку дядьку для воспитания и надумал опять жениться. Взял царь за себя молодую жену, и стала она в дому полной хозяйкой, а Ивану-царевичу — злой мачехой.
Прошло время. Вырос Иван-царевич; выровнялся из него молодец пригожий да славный. О нём в царстве песни пели, о нём сказки сказывали, он красным девушкам во сне снился, на него молодушки заглядывались… Только бы молодцу себе невесту искать да вместо отца-старика за царское дело браться — вдруг умер нежданно старый царь и взялась царством править царица, будто потому, что молод ещё наследник Иван-царевич, не женился, не остепенился.
Раз зовёт Иван-царевич своего дядьку:
— Пойдём, по городской стене погуляем.
— Пойдём, царевич.
Пошли. Идут мимо башни, вдруг окликает царевича из башни голос:
— Выпусти меня отсюда, Иван-царевич; я тебя от трёх смертей избавлю.
Иван-царевич дядьку спрашивает:
— Слышишь, что у нас на городской стене деется?
— Нет, царевич, ничего не слышу.
Вернулись они домой, легли спать; царевичу не спится, всё ему думается: кто в той башне замурован? На заре на утренней встал он потихоньку, снял со стены свой булатный меч и пробрался на городскую стену к башне. Ударил мечом в дверь раз, ударил другой — распалась железная дверь, вышел оттуда Орёл-царь и такую речь царевичу молвил:
— Спасибо тебе, младой юноша, Иван-царевич, что выручил ты меня из тяжкой неволи. Ведь сто лет я в этой башне томился. За то отплачу я тебе добром: от трёх смертей тебя избавлю. Первая смерть тебя нынче ожидает: как придёшь ты домой да захочешь позавтракать, даст тебе твоя мачеха три лепёшки. Смотри, не ешь их, а лучше положи в карман — через малое время всё зло уведаешь. А ещё скажу тебе, Иван-царевич,
вот что: как был жив твой батюшка родной, долго искал он тебе невесту и таки выискал: за тридевять земель,
в тридесятом царстве высватал он за тебя Царь-Девицу и такой уговор сделал, чтоб ей за иного замуж не выходить, а тебе на иной не жениться. Уж три года ждёт она тебя, не дождётся… Когда выедешь ты на сине море да заиграешь в твои гусли звонкие — тут она к тебе и явится. Только твоя мачеха знает тот уговор. Не хочет она тебе царство отдавать и оттого не даст тебе на Царь-Девице жениться. Как поедешь ты на сине море невесту звать — берегись, чтоб не заснуть, со всех сил крепись, не то приедет Царь-Девица да, не добудившись тебя, назад уедет. Трудно тебе тогда будет её доставать.
Поблагодарил царевич царя Орла и пошёл домой.
Дома его мачеха ласково встречает:
— Не покушаешь ли, сынок? Вот я тебе спекла три лепёшечки.
— Давайте, названая маменька; только я их потом съем, а теперь прикажите мне корабль приготовить, поеду-ка я по синю морю покатаюсь.
Мачеха от тех слов забеспокоилась.
Как вышел Иван-царевич, она зовёт к себе дядьку и так ему наказывает:
— Выедете вы с царевичем на сине море, поиграет он на гуслях, тогда воткни ты ему вот эту булавку в ворот кафтана. Пока она там будет — никому его не разбудить.
А царевич пошёл на морской берег. Идёт-идёт, вдруг как зашевелится у него что-то в том кармане, куда он лепёшки положил! Сунул он руку — вытащил ящерицу, сунул в другой раз — вынул жабу, сунул в третий — вытащил змею…
«Правду сказал мне царь Орёл: съешь я эти
лепёшки — все бы эти гады у меня в утробе завелися…» — сказал себе Иван-царевич.
Тут догнал его дядька, сели они на корабль и отправились в море. Посреди синего моря, на широком раздолье заиграл Иван-царевич на своих звонких гуслях так нежно, сладко, что и сказать нельзя. Из-за тридевяти земель Царь-Девица услыхала его игру и вскричала громким голосом:
— Эй вы, слуги мои верные, молодые корабельщики! Снастите три лёгких корабля, ставьте паруса шёлковые, поднимайте якоря железные. Зовёт меня Иван-царевич, мой суженый!..
Завидел её корабли Иван-царевич, удивился.
— Чьи это корабли? — спросил он у дядьки.
— А мне почём знать, — ответил дядька и воткнул ему мачехину булавку в ворот кафтана.
— Ох, что-то клонит меня в сон нестерпимо, — сказал Иван-царевич и не успел тех слов вымолвить — повалился на палубу и заснул мёртвым сном.
Подплыла Царь-Девица, перекинула со своего корабля сходни на корабль Ивана-царевича, взошла на палубу — а он спит крепким сном. Стала она его будить: целовать-миловать, на полотнах качать, сладкие речи приговаривать, — нет, не смогла добудиться!
— Поклонись, — сказала она дядьке, — моему суженому, Ивану-царевичу, да скажи, чтоб ложился спать с вечера, высыпался бы за ночь. — И уехала.
Как отплыли её корабли так далеко, что голосом кричать — не докричаться, рукой махать — не домахаться, дядька вынул булавку из кафтана Ивана-царевича.
Проснулся Иван-Царевич и стал дядьке рассказывать:
— Виделось мне во сне, будто какая-то пичужечка вокруг меня увивалася да так-то грустно щебетала, что у меня на душе и сейчас тяжко.
— Никого, царевич, около тебя не было! — отвечал дядька.
Вечером, вернувшись домой, пошёл Иван-царевич один по городской стене прогуляться, тоску сердечную размыкать. Вдруг из-за каменной башни вышел Орёл-царь и такое ему слово молвил:
— Не пичужечка сегодня круг тебя, царевич, увивалася, как ты во сне видал; увивалась вокруг тебя прекрасная Царь-Девица, целовала-миловала, на полотнах качала — не могла тебя добудиться… Плыви ты завтра опять на корабле, опять она к тебе на твою гусельную игру явится — только уж в последний раз.
Берегись, опять не засни… А утром тебе от мачехи во второй раз смерть грозит: положит она тебе чистую рубашку; ты, смотри, не надевай её. Выйдешь в поле, накинь ту рубашку на ракитов куст — увидишь, что станется.
Наутро говорит Ивану-царевичу мачеха:
— Ты бы, дитятко, рубашку переменил; я тебе чистую положила.
— А вот поеду, названая маменька, нынче опять на корабле гулять, выкупаюсь и переменю.
От тех слов мачеха забеспокоилась: позвала дядьку и строго-настрого наказала ему, чтоб, как сыграет Иван-царевич на гуслях, воткнул бы он царевичу опять булавку в кафтан.
Пошёл Иван-царевич к морскому берегу. Накинул он на ракитов куст ту рубашку, которую ему для перемены мачеха подложила, — облипла рубашка кругом куста, точно к нему приклеилась, и в ту ж минуту вспыхнул куст ярким пламенем и сгорел, так что только пепел от него остался.
«Спасибо царю Орлу! — сказал себе Иван-царевич. — Так бы и мне сгореть».
Отплыв в море, заиграл Иван-царевич на своих звонких гуслях ещё нежнее, ещё слаще, чем вчера. Услыхала его игру Царь-Девица из-за тридевяти земель — не могла усидеть на месте и вскричала громким голосом:
— Эй вы, слуги мои верные, молодые корабельщики! Снастите корабли, ставьте паруса шёлковые, поднимайте якоря железные! Скорёхонько поедем к моему суженому Ивану-царевичу, пока не заснул он непробудным сном, не то ввек мне его не видать.
Издалека увидал Иван-царевич паруса белые и спрашивает дядьку:
— Неужели и нынче не знаешь, чьи это корабли?
— Не знаю, Иван-царевич, — ответил дядька и воткнул ему булавку в ворот кафтана.
Ударил сон Ивана-царевича; как он ни крепился, на ногах ни держался, холодной водой ни умывался — всё-таки справиться не мог: упал на палубу и заснул мёртвым сном.
Подплыла Царь-Девица, перекинула сходни, перешла к Ивану-царевичу — а он спит непробудно. Уж она плакала над ним, причитала, целовала-миловала, на полотнах качала, холодной водой его брызгала-обливала — ничего поделать не могла.
— Кланяйся, — говорит она дядьке, — моему суженому Ивану-царевичу, да скажи, что коли два раза он меня проспал, так в третий раз уж я к нему не приеду. Кто меня любит — тот меня сам найдёт.
— Что бы это значило? — спрашивает Иван-царевич дядьку, проснувшись, когда уж корабли Царь-Девицы из глаз скрылись. — Во второй
раз во сне вижу, будто пичужечка вокруг меня увивалась да так-то грустно щебетала…
Ты не знаешь, отчего бы это?
— Почём мне знать? Спал ты, царевич, всё время сладким сном, и никого около тебя не было, — отвечал дядька.
Вернувшись назад, пошёл вечером Иван-царевич по городской стене прогуляться, грусть-тоску размыкать. Вдруг из-за каменной башни явился перед ним царь Орёл и молвил ему такое слово:
— Эх, Иван-царевич! Опять не удержался ты, проспал свою суженую. Теперь уж она к тебе не приедет! Иди теперь сам искать её за тридевять земель в тридесятое царство… Коли найдёшь — я тебя от третьей смерти выручу.
Сказал так царь Орёл, взмахнул крыльями и улетел неведомо куда.
Иван-царевич, недолго думая, в путь собрался и пошёл куда глаза глядят, искать свою суженую. Дошёл до морского берега — куда дальше идти? Глядь, под берегом трое водяных дерутся — так клочья и летят.
— Стойте, окаянные! Чего дерётесь?
— Да как нам не драться: вишь, оставил нам дедушка в наследство ковёр-самолёт. Никак не поделим.
— Эх вы, глупые! Из-за такого пустого дела ссоритесь. Хотите, я вас разделю?
— Раздели, Иван-царевич.
— Ну ладно; вот пущу я стрелу в сине море, а вы за ней кидайтесь. Кто её сюда ко мне на берег вынесет — того и ковёр-самолёт.
— Пускай стрелу!
Натянул Иван-царевич свой лук до правого уха и пустил калёну стрелу далёко-далёко. Водяные за ней кинулись; только пока они плавали за ней, Иван-царевич сел на ковёр-самолёт и полетел через сине море. Долго летел он, много земель, много морей видел, наконец прилетел на край света. Стоит избушка, а дальше никакого хода нет — одна тьма кромешная, ничего не видать.
«Ну, — думает он, — если здесь не добьюсь толку, больше лететь некуда!» Вошёл в избушку — в ней сидит старуха, седая, беззубая.
— Здорово, бабушка! Не знаешь ли, где моя суженая, Царь-Девица, живёт?
— Не знаю!
— Эх ты, старая хрычовка; сколько лет на свете живёшь, все зубы вывалились, все космы повылезли, а ничего не знаешь!
— Постой, Иван-царевич, не сердись. Я было по старости тебя не узнала: мы с твоим отцом в дружбе жили, не раз хлеб-соль делили. Вот сейчас пойду созову моих сыновей Ветров — не знают ли они, где Царь-Девица.
Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и слетелись с семи сторон семь Ветров, старухиных сынов. Налетели, задули — вся изба трясётся.
— Тише, тише! — крикнула старуха и начала их спрашивать: — Ветры мои буйные, по всему свету вы дуете. Не знаете ли, где царствует Царь-Девица?
— Нет, не знаем! — отвечают Ветры в один голос.
— Да все ли вы налицо?
— Все, кроме Полунощного.
Вдруг загудело-зашумело, снег хлопьями посыпался, морозом-холодом дохнуло, и налетел Ветер Полунощный.
— Чего запоздал? — спрашивает его старуха.
— Оттого и запоздал, что далеко был, у Царь-Девицы в царстве.
— Вот тебя-то мне и надобно, — говорит Иван-царе-вич. — Далеко ли до её царства?
— Конём вовек не доехать, на твоём ковре-самолёте три года лететь, а я в три часа поспею.
Стал Иван-царевич Полунощного просить-молить, чтобы донёс он его к Царь-Девице.
— Пожалуй, — говорит Ветер, — я тебя донесу, коли дашь мне три минуточки погулять вволю по твоему царству.
— Гуляй хоть три недели!
— Ну, Иван-царевич, коли так, собирайся, сейчас отправимся; да смотри не бойся — цел будешь, только закутай кафтаном голову, чтоб не слышать, не видеть и не дышать.
Вдруг зашумел-засвистал сильный вихрь, страшная буря заревела — подхватило Ивана-царевича и понесло неведомо куда. Час несёт, только ход прибавляется; второй час несёт — всё ход не убавляется; третий час на исходе — вдруг ослабел Ветер, тише несёт Ивана-царевича, всё ниже да ниже царевич опускается…
Взглянул он вниз — под ним глубокое море волнуется; а Ветер чуть шепчет:
— Не могу тебя, царевич, дальше нести: от усталости опускаются мои крылья могучие, дыханье прерывается.
Не хочу гулять в твоём царстве. Отпусти меня, а сам спасайся, как можешь…
И с тем словом скинул он Ивана-царевича в морскую пучину.
Тут бы царевичу и смерть пришла, кабы не спустился из облака Орёл-царь. Выхватил он царевича из морской глубины, вынес его на берег и такое слово ему молвил:
— Вот и от третьей смерти я, царевич, тебя выручил. Да и счастье твоё, что не пришлось Ветру Полунощному в твоём царстве трёх минуток вволю погулять: ни одной бы души он живой не оставил. Теперь ступай прямо
от берега — сейчас будет и дворец твоей суженой, Царь-Девицы…
Взмахнул царь Орёл широкими крыльями, поднялся и скрылся из глаз Ивана-царевича навеки.
Пошёл Иван-царевич вверх по берегу. Смотрит: раскинулся перед ним зелёный сад, а в саду высится дворец Царь-Девицы, беломраморный, златом-серебром изукрашенный. Вошёл Иван-царевич в тот сад, наладил свои гусли звончатые и заиграл так нежно да сладко, что и сказать нельзя.
Царь-Девица встрепенулась, кличет своих нянюшек-мамушек, сенных девушек и даёт им портрет:
— Бегите в сад, хорошенько разглядите: не Иван ли царевич, мой суженый, в саду на гуслях играет?
Нянюшки-мамушки побежали, с портретом сличили и, вернувшись, докладывают: «Нет, то не Иван-царевич на гуслях играет; хоть и похож, а не тот: телом худее, лицом чернее и одёжа вся оборванная. На портрете Иван-царевич куда прекраснее».
Отвечает им Царь-Девица:
— Ах вы, глупые-неразумные! Иван-царевич теперь от долгого пути, от великих трудов изнурился, оттого и портрет не сходится.
Побежала сама в сад, тотчас узнала своего суженого; брала его за руки белые, вела в терема высокие.
Обвенчались они, отпировали свадьбу и поплыли на быстрых кораблях в государство Ивана-царевича.
Приехав, Иван-царевич мачеху и дядьку прогнал за предательство, а сам стал жить с супругой в любви и согласии.
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ
КРЕМЕШОК
ИВАШЕЧКА И ВЕДЬМА
СИВКО-БУРКО, ВЕЩИЙ КАУРКО
МОРОЗКО
ЦАРЬ-ДЕВИЦА




 28 оценок, среднее: 3,32 из 5
28 оценок, среднее: 3,32 из 5 16309 просмотров
16309 просмотров